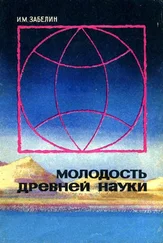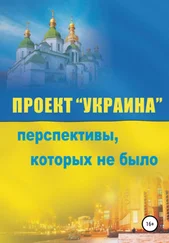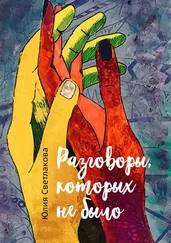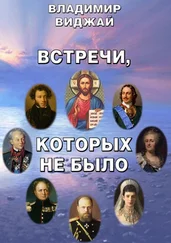Но кроме товаров законных торговый человек снабдил свою экспедицию и контрабандой: железными топорами, ножами, металлическими наконечниками для стрел, то есть оружием, продавать которое туземцам строжайше запрещалось властями. Но чем запретней товар, тем дороже его можно продать! Топоры, например, оценивались так: сколько собольих шкурок протаскивается сразу через отверстие для топорища, столько и цена ему!..
В XVII столетии экспедиции такого рода никогда не были чисто торговыми. Они организовывались как торгово-промысловые, их участники сами промышляли, и промысел иной раз приносил больше дохода, чем торговля. Разумеется, организаторы экспедиции все это учли: мореходов снабдили материалами для устройства ловушек, сетями-обметами на соболей, особыми стрелами для охоты, в том числе томарами — стрелами с тупыми, грушевидной формы наконечниками, сделанными из моржовой, мамонтовой кости или цельных кусков дерева. Они убивали мелких пушных зверьков, а шкурку напортили. На случай встречи с крупными хищниками имелись рогатины. Взяли мореходы с собой и рыболовные принадлежности — большую морскую сеть с грузилами-кибасами (в сумочку из полос бересты вкладывался камень), железные крючки, гарпуны. Захватили они упряжь для оленей и собак; собак везли на судне, а оленей рассчитывали приобрести на месте.
Наконец, и организаторы экспедиции, и ее участники знали, что в районах, населенных «кровавой самоядью», как тогда говорили; далеко не все встречи с туземцами кончаются миром. Поэтому мореходы запаслись луками, колчанами с боевыми стрелами (пользовались русские этим оружием очень умело, что отмечали все иностранцы-очевидцы), ножами, пищалями, бочонком зелья-пороха, пулями и свинцом, пулелейками.
Одежду все имели добротную — выделанные меха, зипуны из английского и своего сермяжного сукна, кафтаны с золочеными шнурками, сапоги на каблуках с металлическими подковками, рукавицы.
В распоряжение экспедиции был предоставлен коч — плоскодонное судно с одной мачтой, с досками, скрепленными деревянными гвоздями — нагелями и прутьями — вицами; борта были укреплены прочными шпангоутами, которые в те времена назывались хорошим русским словом «упруги» или «опруги». Торговый человек снабдил коч мореходными приборами — солнечными часами и компасом, который мореплаватели ласково называли «маточка». А на случай зимовки, чтобы не скучал народ, захватил с собой Акакий Мураг шахматы, искусно вырезанные из мамонтовой кости.
Но кто были те люди, которых завербовал в свою команду приказчик торгового человека?.. В XVII веке рядовой промышленный люд делился на «своеужинников» и «покрученников». Первые из них имели свою собственную охотничью снасть — ужину, а вторые, любители дальних странствий, отправлялись в скитания с пустыми руками и, чтобы кое-как просуществовать, «крутились», нанимались к самостоятельному «опытовщику», предпринимателю и целиком зависели от него.
Скорее всего именно такими покрученниками и была укомплектована команда, но кроме грамотея-приказчика были включены в нее опытные моряки, по морям «староходцы», умевшие обращаться с компасом и солнечными часами. Любопытно, что в экспедиции принимала участие женщина: в избушке на берегу залива Симса археологи обнаружили остатки сарафана, типичной одежды русских женщин. Впрочем, особенно удивляться присутствию женщин на коче не приходится: женщины сплошь да рядом совершали походы вместе с мужчинами, и именно поэтому русские, оседая на Крайнем Севере, создавали постоянные колонии. Не исключено, что во время плавания экипаж коча пополнился и туземной женщиной. Об этом свидетельствует находка зеркала с изображением кентавра (китавраса русских преданий); бронзовые зеркала с кентаврами были чуть ли не обязательной принадлежностью туалета у ненцев и хантов (а позднее у бурят, юкагиров).
Всего отправилось в странствие человек десять-двенадцать.
…Коч вышел в море, очевидно, весной 1617 года. Никто не звонил в колокола, не палил из пушек; просто очередная торгово-промысловая экспедиция покинула гавань и взяла курс на восток. Ветер надул сыромятный парус, мореходы убрали весла, и коч, слегка наклоняясь и зарываясь носом в воду, помчался навстречу восходящему солнцу…
Мореходы миновали Канин Нос, на котором возвышались пять деревянных, крестов, низкий остров Колгуев, прошли Югорским Шаром мимо Вайгача и пересекли бурное Мангазейское море — так называлась тогда юго-западная часть Карского моря. Видимо, где-то в районе Обской губы или Енисейского залива наши мореходы остановились на зимовку. Там они неплохо, поторговали, поохотились и увеличили свой экипаж. Весной, едва сгонные ветры освободили прибрежную полосу моря ото льда, коч продолжил плавание. Теперь путь его пролегал мимо безлюдных, никому не ведомых берегов. Тщетно осматривали мореплаватели землю в надежде увидеть дымы кочевий, но даже местные жители не рисковали пасти стада оленей на суровом Таймыре.
Читать дальше
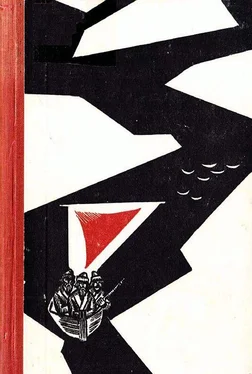

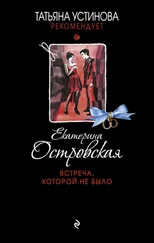
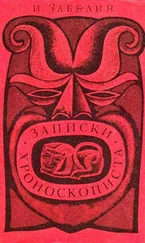
![Игорь Забелин - Загадки Хаирхана [Научно-фантастические повести]](/books/408249/igor-zabelin-zagadki-hairhana-nauchno-thumb.webp)