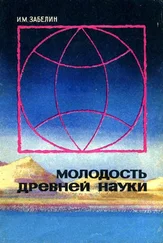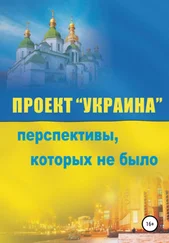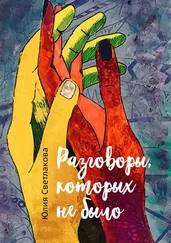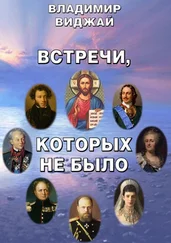Алексей Филипов прибег к тому же приему, что и многие другие атаманы до него. Он отправился к местным князькам и стал их уговаривать добровольно платить казакам ясак — приносить для государя великого соболиные шкурки. Но мотыклейские эвены не вняли, уговорам и отказались отдавать меха неведомому «государю всея Руси».
И не только отказались. Убедившись, что заморские пришельцы ничего, кроме беспокойства и неприятностей, им не принесут и что этих пришельцев совсем немного, местные князьки посчитали, что лучше сразу же расправиться с казаками. Крепкие, срубленные из толстенных бревен стены зимовья навели эвенских стратегов на невеселые размышления, и решено было обманным путем выманить русских на открытое место.
Из этой военно-дипломатической затеи ничего не вышло — не так-то просты были понаторевшие в воинских делах казаки! — и эвены пошли на приступ. Кончилось это тем, что эвены обратились в бегство, а двух их «лучших мужиков» казаки захватили в плен. Тавуна из илкагинского рода скрутил в рукопашном бою Якунка Максимов, а Лукача из убзирского рода — Кручинка Родионов. Якунке Максимову больше повезло: за своего пленного он получил соболей, а эвен Лукач оказался на редкость упрямым: родичам своим он запретил платить ясак и велел идти убивать русских.
Нет нужды описывать бесконечные стычки — атаки осаждающих, вылазки осажденных; порою жарко становилось и в буквальном и в переносном смысле. Так, 15 апреля 1649 года эвены подожгли зимовье и попытались растащить бревна крючьями, но казаки вновь вышли победителями и взяли в этом бою немалые трофеи: 40 луков, 4 рогатины, 24 откаса, 10 куяков костяных, 17 шишаков костяных, 65 лыж подволочных, 10 костяных крюков и 2 железных. Видя, что одолеть казаков не удается, в казенке «умер с сердца» непокорный аманат Лукач…
А потом наступил голод. Взятый с собой провиант быстро кончился, рыбу мешали ловить эвены, еще не потерявшие надежду избавиться от пришельцев, и сидели казаки вместе с аманатами в осаде, «нужду, голод и бедность терпели»… Сырое, прохладное, туманное лето сменялось суровой, с ледяными материковыми ветрами зимой, и вновь наступало лето, а положение не менялось, да и не могло измениться…
На Охоте в это время дела шли не лучше.
Отправив Алексея Филипова с товарищами, Семен Шелковник составил отписку для якутского воеводы. Жаловался он, что нападают на них «многие роды» тунгусов, что сидят они в осаде, и просил прислать на помощь человек сто казаков, обещая, что если начнут «иноземцы» дань платить, то в «ясачном сборе будет прибыль многая…».
С этой отпиской Семен Шелковник отправил в Якутск промышленного человека Федулку Абакумова вместе с мирным эвенским князем Ковырем. По дороге этот самый Федулка, заподозрив измену, убил своего спутника из пищали. За это он поплатился весьма жестоко. Дело в том, что произошло это где-то в бассейне Алдана, там, где местные жители знали и очень уважали Ковыря, — он был одним из авторитетнейших князьков; Шелковник, видимо, по пути на Охотское море прихватил его с собой. Соплеменники Ковыря, узнав о его смерти, «учинили между собой шатость», как жаловались потом казаки, и убили в отместку несколько русских. Казаки сами подвергли Федулку пыткам, а потом доставили в Якутск, где начался над ним долгий процесс: писали в Москву докладные, получали из Сибирского приказа разъяснения, а между делом нещадно били Федулку кнутом на «козле» на глазах у якутов и эвенов, которые требовали выдать им убийцу. Наконец пришло в Якутск из Москвы окончательное заключение по делу Федулки Абакумова и Ковыря: Федулку родственникам Ковыря не выдавать, а выпороть его еще раз и засадить в тюрьму. На Охоту же в ответ на просьбу Шелковника велено было послать людей столько, сколько следует, и собирать ясак с местных жителей «ласкою и приветом, с великим радением».
Новый отряд казаков во главе с Семеном Епишевым был послан на Охоту в июле 1650 года, но только 3 июня 1651 года кочи Епишева подошли к устью реки. Епишева, по его словам, встретило тоже до тысячи эвенов, все они были «сбруйны и ружейны» и в реку не пускали — не хотели, чтобы соединился он с осажденными русскими.
Епишев все-таки прорвался в Охоту и поплыл вверх по реке. Вот что увидел он там: на месте зимовья стоял острог — Косой острожек, как называли его потом казаки. Размерами он был невелик, стены ему заменял вал с тыном. Вокруг острожка стояли чумы эвенов: женщины готовили едут детишки ползали по земле, возились с собаками, мужчины ловили рыбу, зорко следя в то же время за осажденными. Сколько времени продолжалась эта терпеливая, «по-семейному» обставленная осада, Епишев не знал, да у него и не было времени раздумывать на эту тему.
Читать дальше
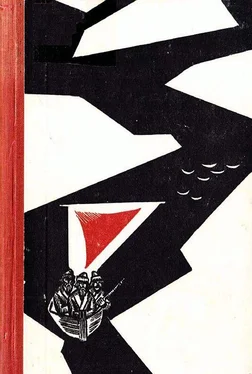

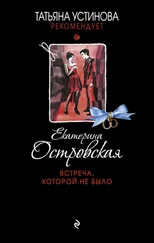
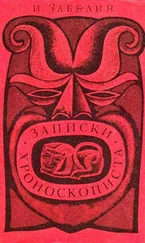
![Игорь Забелин - Загадки Хаирхана [Научно-фантастические повести]](/books/408249/igor-zabelin-zagadki-hairhana-nauchno-thumb.webp)