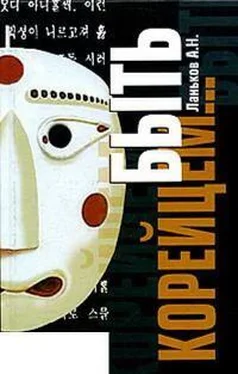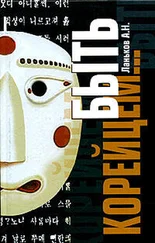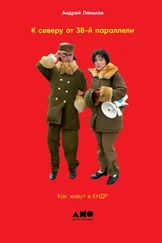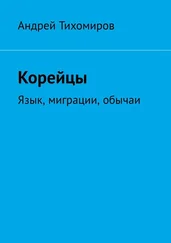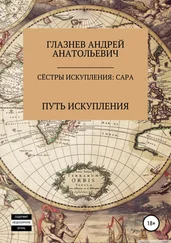Во главе каждого клана стоит совет (чонъчжинхве), руководящий совместным отправлением посвящённых душам предков церемоний и ведущий воспитание своих членов в духе клановых традиций. Надо сказать, что общекорейские клановые советы, при всей своей показной и тщательно культивируемой архаичности, на деле являются весьма новыми учреждениями: первый такой совет появился только в 1967 г. До этого деятельность кланов координировалась на местном уровне.
Главными направлениями деятельности кланового совета, помимо отправления ритуалов культа предков, являются, во-первых, воспитание клановой солидарности, а, во– вторых, редактирование и издание родословных книг чокпо. Правда, большинство родословных в последнее столетие было радикальнейшим образом сфальсифицировано. Почти все корейцы сейчас уверены, что являются потомками дворянских семей по прямой мужской линии. Если учесть, что до начала XIX века дворянство составляло лишь 3-5% населения страны, то невозможно не поинтересоваться тем, куда же делись прямые потомки крестьян, ремесленников, рыбаков и прочих смердов. Дело тут в том, что уже в конце XVIII века государство стало торговать дворянскими привиллегиями. Ещё более распространённым явлением была продажа этих прав обедневшей дворянской семьёй в частном порядке – через фиктивное усыновление. Наконец, уже в XX веке, когда власти перестали следить за составлением генеалогий, началась их прямая фальсификация: внуки смердов стали вписывать себя в генеалогии дворянских родов. К 1960-м годам процесс этот достиг своего логического завершения: все корейцы провозгласили себя дворянами! Впрочем, об этом речь пойдёт в другой главе.
И, в заключение, несколько слов об именах и фамилиях корейцев бывшего СССР – «корё сарам». Переселение корейцев в России. Проходило в основном в конце XIX века, то есть во времена, когда в самой Корее нынешняя система имён и фамилий уже вполне сформировалась. Поэтому корейцы в СССР носят вполне обычные корейские фамилии – Ким, Пак, Ли и т.д. Единственная специфическая черта – это фамилии с суффиксом –гай: Тягай, Огай, Хегай и другие. Суффикс этот добавлялся к односложным фамилиям, оканчивающимся на гласный: О становился Огаем, Ли – Лигаем и т.п.
С именами дело обстояло сложнее. В конце XIX века большинство корейских переселенцев стремилось принять православие – не столько из-за религиозного пыла, {с.275 · с.276} сколько из-за стремления в кратчайшие сроки получить российское гражданство. При крещении им давались русские имена. Как правило, брались они из святцев, так что корейцы, родившиеся до 1920-25 гг., сплошь и рядом носили крайне архаичные русские имена – Акулина, Ювеналий, Прасковья, Мефодий. В 1920-е гг. им на смену пришли имена обычного русско-советского типа.
Однако в 1930-е гг. ситуация изменилась. С того времени корейцы СССР стали широко пользоваться необычными для России именами «западноевропейского образца» – Эдуард, Анжелла, Герман, Мэри. Причина этого проста: небольшой репертуар традиционных русских имён совпадал с небольшим репертуаром корейских фамилий. В результате появлялялось огромное количество полных тёзок, у которых совпадало и имя, и фамилия. Если учесть, что примерно 15% корейцев носит фамилию Ким, а 15% русских мужчин зовутся Сергеями, то легко подсчитать, что в корейском посёлке с населением в две тысячи человек в среднем должно быть 20-25 человек, которых бы звали ”Сергей Ким”. Переход к ”экзотическим именам” во многом решил эту проблему – и стал национальной традицией ”корё сарам”. {с.276 – с.277}
Дела давно минувших дней.
А вокруг – одни дворяне…
Наверное, мало кто в нынешней России в состоянии хотя бы даже просто назвать имя своего прапрадеда, не говоря уже о более далёких предках. Сейчас модно рассуждать о том, что причина этого, дескать, лежит в злокозненной политике коммунистов, которые якобы сознательно старались “прервать связь времен”. Однако если обратиться к тому, что происходит в других странах Европы, то можно обнаружить, что и там со знанием своей семейной истории дела обстоят не блестяще. У рядовых французов или австрийцев представления о своём фамильном древе едва ли лучше, чем у рядовых россиян. Конечно, есть и исключения, но к ним относятся в основном уцелевшие кое-где потомки дворянских родов, да немногие пенсионеры-любители порыться в архивах. В этом, впрочем, нет ничего удивительного: увлечённые занятия собственной родословной, её изучение (а порою – и фальсификация) всегда были привилегией элиты, немногочисленной верхушки общества. Конечно, Пушкин мог знать (и действительно знал) свою родословную вплоть до XIII века, но вот его няня Арина Родионовна едва ли могла бы назвать имя своего прадеда.
Читать дальше