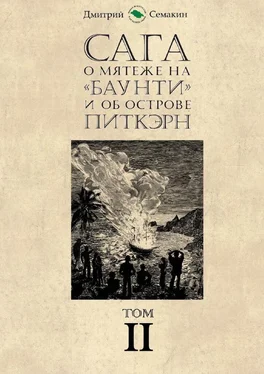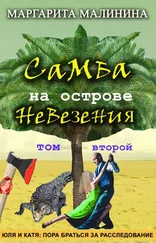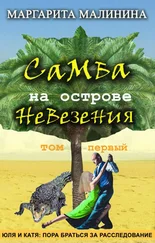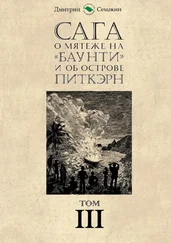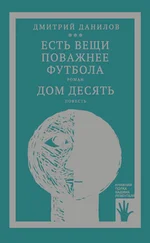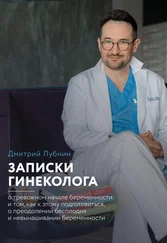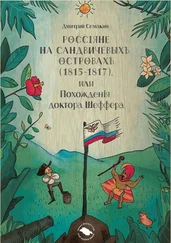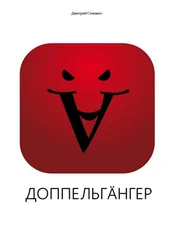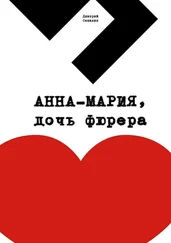…Прошло четверть века. Я давно потерял связь со своими друзьями, «со-правителями» нашей страны, много лет живу в Москве, и все вокруг сильно изменилось. Но все эти годы я не мог забыть нашу детскую игру. Периодически я возвращался к ней, невольно сравнивая мою нынешнюю жизнь с жизнью на Том Острове. Это было забавно.
И вдруг… В один прекрасный, по-настоящему счастливый день я вдруг узнал, что романтическая сказка, сочиненная мной в детстве, — легенда о бегстве со своими возлюбленными чужеземками на необитаемый остров — имеет потрясающий аналог в реальной истории.
Я узнал о мятеже на «Баунти» и об острове Питкэрн.
И это круто повернуло мою жизнь.
Случилось это так.
В 2002 году я оказался на Гавайях. Уже давно поняв к тому времени, что жизнь дана человеку еще и для того, чтобы «мир посмотреть», я продолжал активно путешествовать. Сначала, еще в девяностые, колесил по Европе (за 7 лет 15 стран, и прежде всего моя любимая Британия), потом открыл для себя Америку (11 штатов за 4 года). Постоянно, однако, меня тянуло все дальше и дальше от дома, и я стал приглядываться к Полинезии. Ведь это — противоположная сторона глобуса от Москвы, куда ж дальше (даже Антарктида чуть ближе).
Так с приходом Третьего Тысячелетия я, еще толком практически ничего не зная об Океании, вознамерился ради спортивного интереса в ближайшие годы посетить все три манящие «вершины» полинезийского «треугольника». То есть Новую Зеландию («землю антиподов»), остров Пасхи (тогда казавшийся мне пределом экзотики и досягаемости) и Гавайский архипелаг (он же — 50-й штат США).
Начать решил с последнего пункта назначения, благо в моем паспорте тогда уже имелась действующая многократная американская виза, а тут еще и немного свободного времени появилось.
И вот я на Гавайях. Посетив некоторые достопримечательности острова Оаху (пляж Вайкики в Гонолулу, Перл-Харбор, Океанариум, рынок), я в свой предпоследний день поехал с туристическим автобусом в так называемый Полинезийский Культурный Центр. Это большой зеленый парк, разделенный по этнографическому признаку на несколько полинезийских «деревень»: Гавайи, Таити, Аотеароа (Новая Зеландия), Самоа, Тонга, острова Кука и т. д.
Юноши и девушки в национальных костюмах разыгрывают перед многочисленными посетителями сценки из древне-полинезийской жизни: при помощи прутика и веревочки добывают огонь, с ловкостью обезьяны взбираются на пальму за кокосом, устраивают гонки на каноэ, поют, танцуют и фотографируются с гостями. Все здорово продумано и отрепетировано, как, впрочем, в любом американском парке развлечений.
И там была огромная настенная карта Полинезии. Тихий Океан, на котором точками и контурами отмечены все архипелаги, большие и малые. Для наглядности каждую островную группу обозначал свой характерный рисунок: у кого-то маска с орнаментом, у кого-то горбатый кит, портрет Кука или, скажем, танцующая хула-хулу девушка.
И вот, стоя уже под вечер перед этой картой, я вдруг обратил внимание на маленькую картинку, расположенную в правом нижнем углу «полинезийского треугольника», всего в нескольких сантиметрах от острова Пасхи и его узнаваемого символа — каменного идола моаи.
Там был изображен крошечный пальмовый островок, и рядом — старинный парусник, весь объятый огнем. Рисунок был, если честно, так себе, и скорее напоминал карикатуру, но что-то в нем завораживало. А внизу — надпись мелким шрифтом: «Pitcairn Island. The island of the BOUN-TY mutineers» (или что-то в этом роде, сейчас уже не помню дословно).
Мой английский тогда оставлял желать лучшего (впрочем, как и сейчас), и слова «mutineers» («мятежники») я не знал. Но почти незнакомое имя «Pitcairn» запомнилось. Плюс тут же со словом «Bounty» возникли конкретные ассоциации из рекламы — «Баунти», «щедрость», кокосовые пальмы, белый пляж и голубая лагуна. «Райское наслаждение».
Так впервые в моем мозгу соединились два этих слова — «Баунти» и Питкэрн.
Эта примитивная картинка на стене иллюстрировала какую-то историю. Мне абсолютно не ведомую, но очевидно романтичную и драматическую. Горящий корабль? У одинокого островка? И причем здесь «райское наслаждение»?
…Вернувшись в Москву с грузом американо-полинезийских впечатлений, я на какое-то время забыл о картинке на стене. А потом мгновенно вспомнил о ней, когда, пару месяцев спустя, прочитал у Тура Хейердала всего лишь несколько фраз в книге «Аку-аку». С этих слов великого норвежского путешественника у меня по-настоящему всё и началось, и сейчас я не могу не процитировать их.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу