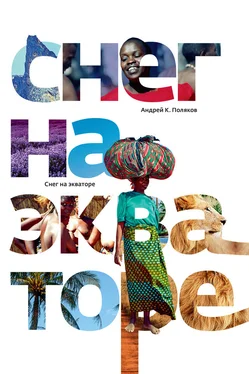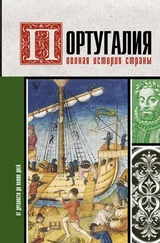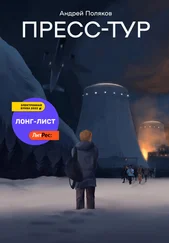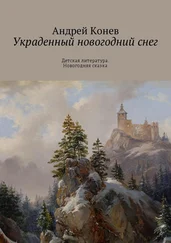Передохнув на уступе, двинулись дальше. Тропа вывела на гребень. Слева, на противоположном склоне, белел ледник – грозный, величественный, равнодушный. В голове сама собой зазвучала музыка. Но не мелодичное оркестровое вступление ко второй части скрипичного концерта Брамса, обычно приходившее на ум при виде гор, а отрывистая какофония струнного трио Антона фон Веберна. На высоте звуки, раньше казавшиеся случайными и хаотичными, обрели стройность и гармонию. «Не зря Веберн так любил Альпы», – пронеслось в голове.
За грудой валунов показался еще один склон. Перед ним стоял игрушечный домик – «Австрийская хижина», названный так потому, что в 1973 году его построили австрийцы в благодарность за спасение сорвавшегося с пика соотечественника. В домике было жарко, тесно и шумно. Воздух прогорк от керосинок. На полках под потолком шевелились проведшие здесь ночь люди и скреблись вездесущие даманы.
Выпив по кружке горячего чая, мы выбежали наружу. Небо окрашивалось в багровые тона. Надо было спешить. На оставшиеся до вершины 200 метров, обычно занимающие час, ушло не больше получаса. Сердца выпрыгивали, ноги дрожали, воздуха отчаянно не хватало, но мы успели вовремя. Едва выбрались на маленькую плоскую, продуваемую всеми ветрами площадку пика Ленана, как навстречу из-за горизонта выкатился солнечный диск.
Отсюда, сверху, можно было рассмотреть все: «Австрийскую хижину», лагерь-барак, солнечную долину, а еще дальше явственно виднелся крошечный холмик со спиленным верхом.
– Килиманджаро, – сказал, затянувшись сигаретой, Пол. – Две самые высокие вершины Африки разделяет почти 400 километров, но при хорошей погоде они могут друг с другом поздороваться.
Настало время спросить, что же значит название горы, давшее имя стране.
– Белая гора, – ответил проводник. – Только не на моем родном гикую, а на масайском. А Ленана – имя вождя масаев. Предателя, дружившего с англичанами.
Обратный путь занял значительно меньше времени. Всю дорогу мы почти бежали, лишь изредка делая остановки. С наслаждением скинув на метеостанции опостылевшие тяжелые ботинки, довольные и гордые собой от сверхскоростного спуска, мы приготовились ждать носильщиков, вышедших из лагеря-барака вслед за нами. Но нас посрамили. Нагруженные рюкзаками ребята не только вернулись раньше, но и успели приготовить обед.
Назад нас везли на джипе. Грузовик-автобус понадобился где-то еще. Носильщикам мест не хватило, и их просто бросили у ветхого мостика, в четырех с лишним часах ходьбы от базового лагеря. Когда машина тронулась, я оглянулся: парни, как ни в чем не бывало, готовились в путь и на прощание приветливо махали нам руками.
Они ходили по маршруту почти каждую неделю, получая крохи от немалых денег, которые платили за восхождение туристы. Но многие не имели и этого, поэтому ребята не роптали, а, напротив, считали себя счастливчиками. Им было все равно, чьи вещи нести, они не спрашивали национальность. Была бы работа, а остальное неважно. Они ходили бы в горы и чаще, но существовал график и очередность. Мы же, потирая ставшие непослушными ноги, по дороге в Найроби единодушно постановили: гора Кения, конечно, – несравненное чудо природы, увидеть которое – большая удача, но одного восхождения, честное благородное слово, вполне достаточно.
Хватило его и для того, чтобы осознать, что действительное положение дел на горе несколько отличается от паникерских докладов на международных экологических форумах. Восхождение, совершенное в первые месяцы пребывания в Кении, положило начало скептическому переосмыслению роли природоохранных и, шире, неправительственных организаций в современном мире. Не оспаривая их роли в привлечении внимания к насущным проблемам, я, тем не менее, позволю себе усомниться в независимости и непредвзятости некоторых общественников и представляемых ими структур.
Давно минули времена, когда работа таких организаций строилась на энтузиазме и внутренней убежденности в важности своего дела. В наши дни движущей силой зачастую становятся деньги, выделяемые в лучшем случае нейтральными спонсорами и государством, а в худшем – лоббистами, заинтересованными не в сохранении природы, а в продвижении личных корыстных интересов. В результате экологов используют для борьбы с конкурентами, деловыми и политическими. С помощью природоохранных организаций давят на инвесторов, чтобы получить щедрое вознаграждение за снятие препятствий на пути реализации дорогих крупных проектов. Привлекают экологов и для достижения других столь же малосимпатичных целей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу