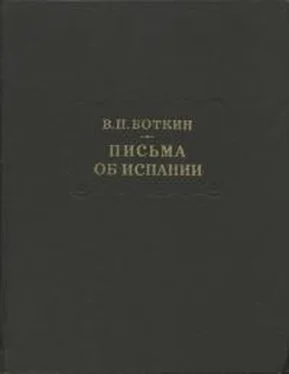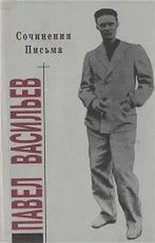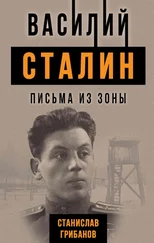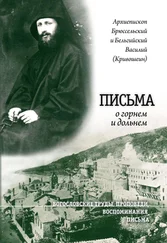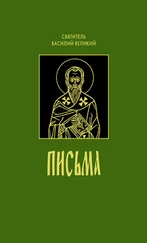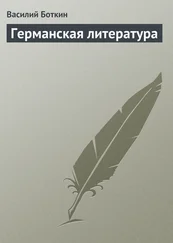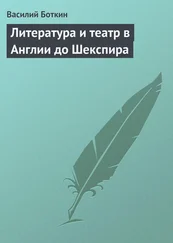Однако укрепление в «Современнике» радикальных сил, твердая позиция Чернышевского пугают осторожного и либерального Боткина; он снова в 1856 г. отшатывается в антидемократический лагерь и пишет одну из программных статей в защиту «чистого искусства» — «Стихотворения А. А. Фета» (1857), которую ему, благодаря И. И. Панаеву, удалось опубликовать в «Современнике». Это была последняя статья Боткина в этом журнале, да и вообще последняя его печатная литературно-критическая статья.
Дальнейшее обострение социальных конфликтов в России испугало Боткина и во многом обусловило его отказ от журнальной, литературной деятельности. После 1857 г. он главным образом снова путешествует, лишь эпизодически возвращаясь к искусствоведческим работам и путевым очеркам (например, в «Русском вестнике» 1859—1860 гг. публиковались его статьи о лондонской жизни, особенно интересные дальнейшим развитием общественных идеалов, проповедовавшихся в «Письмах об Испании»).
После польского восстания 1863 г. Боткин становится консерватором-монархистом, вместе с Фетом пишет яростно отрицательную рецензию на роман Чернышевского «Что делать?» (ее, впрочем, не решился напечатать редактор «Русского вестника» М. Н. Катков не потому, что был «левее», а потому, что боялся даже негативной пропаганды революционного романа).
В последние годы жизни, тяжело болея, Боткин почти полностью отказывается от творческой деятельности.
Многолетнее его молчание и откровенный консерватизм воззрений привели к тому, что поколение 60-х годов почти забыло о существовании былого соратника Белинского и Бакунина, и, когда он умер, то П. В. Анненкову в некрологе [199]пришлось напомнить современникам о роли Боткина в истории русской литературы и общественной мысли, разумеется, подчеркивая главным образом его заслуги как человека эпохи Белинского.
Эволюция Боткина как мыслителя и литератора, да и вообще как личности была, таким образом, сложной и своеобразной. Никто не может сравниться с ним по числу «зигзагов», резких колебаний от демократизма (чуть ли не революционного) к крайнему консерватизму, от передовой публицистики к защите «чистого искусства».
Сложный сплав художественного чутья, недюжинного ума, широкого круга знаний с опасной «гибкостью» мышления, переходящей в приспособленчество, в преклонение перед силой и модой, и с либеральной тягой к «золотой середине» — все это заметно сказалось на стиле статей и очерков Боткина и, может быть, всего более — на стиле «Писем об Испании».
Произведения Боткина написаны умно, тонко, интересно, хорошим литературным слогом, отразившим завоевания русского художественного и публицистического языка 30—40-х годов (благодаря творчеству Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского, Герцена). Однако стиль Боткина чрезмерно гладок, почти нейтрален, в нем нет острой шероховатости индивидуальных поисков. Вообще Боткин был чужд строгой энергичности мысли и стиля, даже в самые радикальные периоды своей деятельности он никогда не употреблял иронию или сарказм, совершенно не умел пропагандировать и полемизировать [200]. Да эти свойства его литературной манеры к тому же органически вытекали из идеала «золотой середины». Последнее обусловило все-таки стилистическое и грамматическое своеобразие боткинских фраз: их нарочитую нечеткость, обилие «оговорочных» предложений, обилие вопросов — полуобращений к читателю, полусомнений, обилие зыбких многоточий в конце периода.
Великолепное знание разных видов искусств давало Боткину материал для интересных сравнений и параллелей литературы и музыки, живописи и архитектуры. Несколько странными на этом эстетическом фоне выглядят его «гастрономические» сравнения, хотя в них очень ярко отражается сущность эстетического чувства Боткина: искусство воспринималось им как личная, чуть ли не физиологическая радость.
Когда писателю удавалось органически соединить эстетический пафос с насущными общественными проблемами, то возникали значительные — и весьма сложные — произведения, надолго пережившие его время. К такого рода произведениям относятся и «Письма об Испании».
5
В истории русского путевого очерка «Письма об Испании» занимают своеобразное место. Наиболее эффектно было бы противопоставить книге Боткина, с одной стороны, сентиментально-романтическую литературу, которую В. А. Жуковский демонстративно хвалил за отсутствие фактов и идей [201], с другой — фактографические очерки, насыщенные реакционными мыслями, например, «Год в чужих краях» М. П. Погодина (М., 1844) или «Отрывки из заграничных писем. 1844—1848» Матвея Волкова (СПб., 1857). Такое противопоставление ярко оттенило бы новаторское превосходство «Писем об Испании».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу