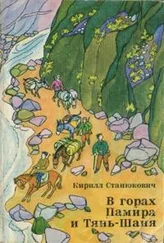С огромным вниманием я слушал этот рассказ, да что я? Его слушали решительно все, даже проводники протиснулись и слушали, стоя в проходе. Я верил и не верил, восхищался и завидовал. Но, когда в неясном свете коптящей свечи в далеком конце купе я увидел, как смотрит на него девушка с чудесными глазами,- я возненавидел его.
Наступила ночь, и, хотя я уже сидел, удобно прислонившись, заснуть долго не мог. Нет, мне не мешал ни густой махорочный угар, настоенный на запахе добрых портянок и пеленок, ни храп, ни постоянные толчки поезда. Мне мешали всю ночь тихие, ласковые переливы баритона и негромкий грудной девичий смех.
Васька разбудил меня уже когда было совсем светло и по-дневному жарко. Он сел ко мне в вагон еще вчера вечером, когда звучало рычание тигров и слон бежал через молчаливые джунгли. Рассказ он, правда, выслушал до конца, но потом сразу заснул.
Мы взяли свои вещи и вышли. Уходя, я бросил взгляд в соседнее купе. Девушка спала, сидя на скамейке рядом с человеком, бывшим в Сингапуре, ее чудесные глаза были закрыты, а головка доверчиво покоилась на плече у соседа.
Боже мой, как я его ненавидел!
Мы вышли на станции Чу и сразу отправились получать багаж. Багаж мы получили и сложили в зале ожидания. Его было до черта, он лежал горой; здесь были и седла, и вьючные ящики, и гербарная бумага, и фонари, и кастрюли – в общем, все снаряжение нашей довольно большой экспедиции. А мы, двое практикантов, сидели под этой горой, решительно не зная, что нам делать.
Уговор был такой: весь состав экспедиции выезжает из Алма-Аты вперед налегке до станции Чу и здесь организует базу, достает лошадей и все остальное. А мы с Васькой можем ехать, только если своими глазами увидим, что все наше снаряжение погружено в вагон и поехало. Этого момента, когда от нас примут и погрузят снаряжение, мы ждали несколько дней. И вот, наконец, мы выгрузились на станции Чу, но нас никто не встретил.
Мы подумали, поговорили и решили, что Вася пойдет искать наших в райцентр за несколько километров, а я останусь караулить вещи.
Еще в Алма-Ате я был болен, но не знал об этом. Мне просто стало плохо жить на свете; то, что всегда наполняло мою жизнь, делало ее приятной и интересной, почему-то исчезло, а осталось только неприятное, тяжелое и нудное. Новые виды утомляли, люди раздражали, а работа была в тягость.
Среди дня мне становилось томительно жарко и душно, я пил много воды, ходил весь мокрый от пота и был слаб, как муха.
Я не понимал, что со мной, а я был болен, у меня в крови метались малярийные плазмодии, но они еще не были в состоянии побороть меня.
Но тут, на станции Чу, малярия, наконец, пересилила меня и повалила на горячую вокзальную скамейку.
Был день – душный, томительный, жаркий. Под высоким стеклянным потолком станции гулко отдавались голоса, шаги, звон посуды, хлопанье дверей, и все эти шумы превращались в удары по ушам, в тяжелый гудящий грохот, который ужасно мучил меня.
Жара давила и душила. К середине дня мне стало совсем плохо. А на других скамейках тоже лежали и спали, и никому не приходило в голову, что мне так нехорошо.
Но часов в двенадцать я, бросив вещи, встал и пошел искать какую-нибудь помощь.
Амбулатория оказалась где-то очень близко от станции, но я едва добрался. Я шел шатаясь, непрерывно борясь со страшным головокружением. Несколько раз я садился и даже ложился на дорогу, когда ноги подламывались и становилось совсем темно. Я ложился прямо в пыль, и мне не было стыдно прохожих, которые принимали меня за пьяного.
В амбулатории я, вероятно, сильно напугал людей; мокрый, в пыли и грязи, я мог смутить кого угодно. Но еще больше смутил врачей градусник, вынутый у меня из-под мышки: он показывал что-то около 41°. Мне давали пить, что-то вспрыскивали, обтирали и положили на длинную лавку, покрытую, как водится, простыней. Через некоторое время мне стало легче, приступ кончился, и я, несмотря на протесты докторов, пошел на станцию. Там лежало все наше снаряжение, брошенное на присмотр случайных соседей по скамейке.
К вечеру явился Васька с большой подводой, на которую мы погрузили вещи.
Васька заявил, что он наделал занятных этюдиков, что начальство он нашел и три раза пробовал делать с него наброски, но почему-то у него всякий раз вместо женщины получалась лошадь.
– А она, ты понимаешь, когда я ей в третий раз не показал рисунка, она сказала, что все художники такие оригиналы, но что иметь в экспедиции своего художника очень приятно.
Читать дальше