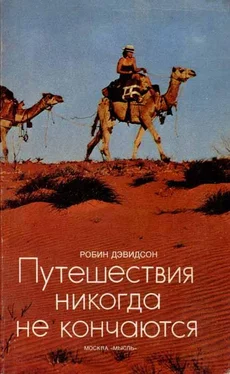— Где ты был?
Ричард растерянно переводил взгляд с одного лица на Другое.
— Нигде не был, читал книжку в лагере, а что? — спросил он.
Я почувствовала, как мои побелевшие губы злобно сжались. Остальные переглянулись, деликатно покашляли и уехали. Рик извинился. Я не ответила. Мой гнев отвердел и застыл. Застрял, будто кол, у меня в горле.
А потом пошел дождь. Огромные рассерженные тучи — не знаю, откуда они взялись — неслись по небу, с грохотом сталкиваясь друг с другом, посыпался град, начался потоп. Дождь лил как из ведра, как из ушата, как из тысячи ведер и ушатов, а я шла сквозь потоки воды, замерзшая, промокшая, и прижимала свой гнев к груди, точно ребенка. Я беспокоилась о верблюдах — привычное беспокойство. И я была очень измучена. Измучена тяжелой работой и тревогой, измучена гневом, измучена своими мыслями, одним и тем же кругом мыслей, постоянно возвращающихся к одной, главной: с какой стати я стала участницей бессмысленного, нелепого фарса?
И конечно, именно в этот вечер мой ненаглядный Голиаф решил, что больше не хочет ходить на привязи вокруг Дерева. Я бегала за ним часа полтора. И добегалась до полного изнеможения. Мое тело покрылось коркой грязи, я дрожала от усталости, когда наконец поймала несносного малыша. Добравшись до лагеря, я потеряла над собой власть, мои громогласные рыдания мешались с бессвязными угрозами Ричарду, пока я совсем не ослабела и могла уже только еле-еле махать руками и трясти головой, словно испорченная заводная кукла.
Эта ночь внесла два новшества в мои отношения с Ричардом. Во-первых, терпимость — мы оба поняли, что без взаимных уступок нам не обойтись. Терпимость создала прочный фундамент для нашей необычной дружбы, и при всех взлетах и падениях она сохранилась. Во-вторых, секс.
Увы, да. Дурочка я, дурочка. Наверное, это было неизбежно, но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что совершила непоправимую ошибку — продала свою свободу. Этим древним и ненадежным способом я связала себя с Ричардом дополнительными узами: я уже не могла, как прежде, совершенно не считаться с его чувствами, Рик Смолан [31] Рик Смолан — известный американский фотокорреспондент
, замечательный фотограф; еврей, выживший, пробившийся в Нью-Йорке; очаровательный мужчина, наделенный несравненным даром покорять и привлекать всех и каждого, даже не подозревая об этом; талантливый, великодушный, странный юноша, прячущий робость за линзами фотоаппарата, — вот с кем непоправимо переплелась судьба путешествия. Это он, Рик Смолан, отнял у меня его замысел и суть и из человека, которого я едва замечала, превратился в жернов у меня на шее, в мой крест. Так возник первый «дестабилизирующий фактор», во многом предопределивший характер моего путешествия. После этой ночи Рик влюбился. Не в меня — в «женщину с верблюдами».
Тем не менее мы стали добрее друг к другу. Рик начал проявлять неподдельный интерес к происходящему, а я начала осваиваться с мыслью, что он должен или полностью отстраниться от путешествия, или полностью в него включиться. Я поняла, что не могу требовать от него того и другого одновременно. С этого дня в душе Рика что-то изменилось, пустыня начала понемногу завладевать его сознанием, и в конце концов он научился понимать ее, а заодно и себя.
Мы миновали пещеру Ласситера, этого заболевшего «золотой лихорадкой» горемыки, который лишился верблюдов и погиб в-дюнах с колышком в руках, вырванным, очевидно, из носа перепуганного, понесшегося вскачь верблюда; несчастный унес в могилу тайну местонахождения, будто бы найденных им богатейших россыпей золота, которые могли бы сделать его сказочно богатым, вернись он домой живым. Аборигены из племени питджантджара, ни разу прежде не видевшие двуногих существ с белой кожей, пытались спасти его, но, как и многие другие неудачливые первооткрыватели, Ласситер не мог идти так быстро, как они, и умер жалкой смертью всего в тридцати — сорока милях от надежного пристанища. Многие старики аборигены еще помнят Ласситера. Я заставляла себя не думать о колышке у него в руках.
До Докера оставалось не больше двух дней пути, когда случилось первое настоящее несчастье. Я осторожно вела верблюдов по реке, где еще недавно пролегала дорога, как вдруг Дуки, который шел последним, поскользнулся и упал. Я вернулась и приказала ему встать. Похлопала по шее, снова приказала встать. Дуки жалобно посмотрел на меня, застонал и поднялся. Дождь не давал открыть глаз, потоки воды леденили тело. Дуки едва наступал на переднюю ногу. Мы разбили лагерь, в тот день с неба изливался какой-то странный темно-зеленый свет, и все вокруг казалось глянцевым. Я совершенно не понимала, что случилось с Дуки. Тщательно осмотрела ногу сверху донизу, ощупала, растерла. Дуки вздрагивал от боли, но опухоли нигде не было видно. Я поставила несколько согревающих компрессов, чем еще помочь Дуки, я не знала. А главное, не могла догадаться, что произошло: сломал Дуки ногу, порвал связки? Ясно было одно: он не мог идти. Жалкий и несчастный, лежал он в пересохшем русле и отказывался стронуться с места. Я нарезала ему траву, снова и снова растирала ногу. Я ласкала и ублажала Дуки, но на душе у меня было скверно — я устала, я чувствовала себя как побитая собака. Одна неотвязная мысль не давала мне покоя, хотя я всячески гнала ее прочь. Мысль, что мне, наверное, придется застрелить Дуки, что путешествие на этом кончится, что вся моя затея — глупая, жалкая шутка. Хорошо хоть, что Ричард был рядом.
Читать дальше