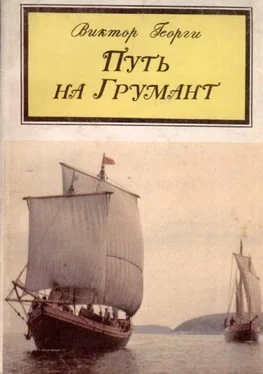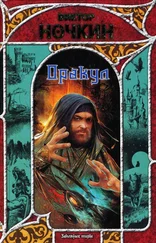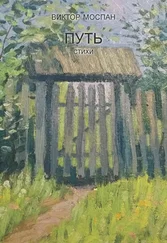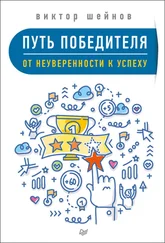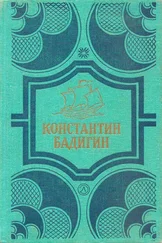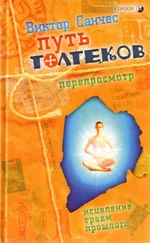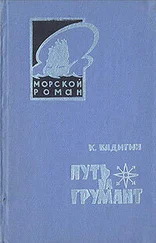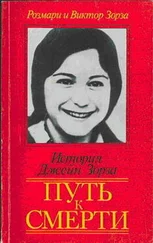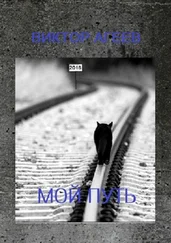Мой отец — коренной одессит. В послевоенное время судьба забросила его в Мурманск, связала со старейшим в стране траловым флотом: диплом штурмана дальнего плавания ценился в те годы весьма высоко. Возможность посмотреть мир, промышляя не только в Баренцевом, но и в морях Западной Атлантики, неплохие заработки, а затем семья, квартира, относительное благополучие с расчетом на растущие вместе со стажем северные льготы заставили отца надолго осесть в Заполярье. Но сколько я, по праву считающийся северянином, помню себя — в семье постоянно велись разговоры о необходимости переезда — возвращения в Одессу.
Выйдя на пенсию, отец стал искать варианты обмена жилья. Однако море, которому было отдано тридцать лет жизни, неохотно отпускает от себя ветеранов: вдали от берега оно своенравной хозяйкой с необычайной легкостью в одночасье расшвыривает жесткой метлой антициклона зазевавшиеся сейнеры-траулеры, а в городах продолжает мертвой хваткой сжимать сердца старых моряков. И после, казалось бы, желанного переезда, когда уже веришь, что эта крепкая, как мужское рукопожатие, хватка слегка ослабла, сказываются накопленные годами бессонные вахты — и сердце не выдерживает. Так вырастают на далеких причерноморских кладбищах скромные памятники с выбитыми в камне якорями. Места последних стоянок для многих одесситов и херсонцев, чьи имена еще помнят заполярные капитаны, но о чьих делах не знают земляки-южане…
Нет, не только и не столько об отце вспоминаю я в эти минуты: думаю о себе, о своем сыне. Как же это получается в нашей жизни, что всё как-то не находим мы случая поговорить по-хорошему с самым близким человеком? Пока рос, учился в школе — отец ходил в море, появляясь на берегу лишь на короткие, празднично-суматошные сутки междурейсовых стоянок. Отслужил в армии, надумал жениться — и не отцу, а будущей супруге смог высказать переполняющие душу слова благодарности. Родился сын — а отца уже нет… И остался я в родном и одновременно чужом для себя городе один. С годами Мурманск, созданный трудом таких, как отец, людей, у которых была своя малая родина на юге или в средней полосе России, не становился ближе. По счастливой случайности судьба забросила однажды на Терский берег, подарила встречу с Беломорьем, откуда есть пошла вся Кольская земля. И жизнь стала осмысленнее, появились корни — пусть не по крови, а по нутряной тяге — тоске к этому краю. Мало, наверное, для человека иметь лишь штамп о прописке в паспорте. Нужна и есенинская березка под окном не абстрактного, а знакомого до боли родного дома. Дома эти еще сохранились у нас по побережьям — большей частью заколоченные в забытых беломорских селах.
А Архангельск, этот город-символ досельной поморской славы? Так вот, оказывается, в чем кроется сила архангелогородцев, притяжение этого города: здесь почти нет временщиков, здесь без излишних потуг помнят свое прошлое, ведут отсчет поколений от дедов и прадедов.
В Архангельске я позвонил Ксении Петровне Гемп, спросил разрешения встретиться с ней. Удивительный человек эта девяносточетырехлетняя женщина! Неунывающая, с цепкой памятью и энциклопедическими знаниями. Вся какая-то светлая, приподнятая, хотя по квартире ходит с костылями — годы…
И рассказала Ксения Петровна о своих встречах с легендарными теперь уже полярными исследователями Георгием Седовым и Владимиром Русановым. О взаимоотношениях этих двух отважных мореходов, о том, какого цвета были глаза у Седова: если спокоен — серые, а когда злится — зеленые. Рассказала о том, как хлопотала она, чтобы повысили пенсию вдове Седова, получавшей 18 рублей в месяц. А ей уже в наши, шестидесятые годы, один чиновник от власти говорит: «А кто такой этот ваш Седов и при чем здесь его вдова?» «А я ему отвечаю, — волнуясь, вспоминает Ксения Петровна. — Георгий Яковлевич был таким человеком, каким вы никогда не станете…»
О многом — вечном и сиюминутном — заставит вспомнить двинская волна в короткие часы ночных раздумий. Надо только научиться слушать ее бесхитростное повествование и не пытаться отделить будни от праздников: горький пьяница и сбивающая масло хозяйка равны перед струящейся водой жизни, в которую, как известно, не войдешь дважды. Как ни старайся.
В один из дней стоянки архангелогородские комсомольцы помо ли организовать для нашей экспедиции экскурсию в Малые Корелы — этот своеобразный музей деревянного зодчества под открытым небом. Ярких впечатлений, правда, он не оставил. Как-то уж слишком мертво выглядят собранные в одном месте с бору по сосенке старые дома и мельницы. Уж если сохранять, то сохранять их надо, на мой взгляд, в живых еще поморских деревнях. Потому что как человек без Родины, так и эти дома — сироты на новом месте при всем кажущемся благополучии. Так, наверное, выглядел бы и наш коч где-нибудь у черноморского побережья. Ведь вся конструкция судна от шпангоутов- «опруги» до бушприта-«накозьи» выверена веками и как костюм хорошим портным подогнана к походам по Беломорью, а не по южным морям…
Читать дальше