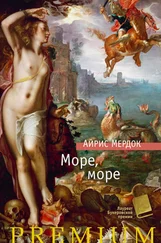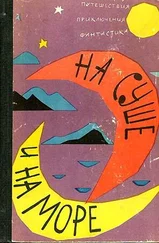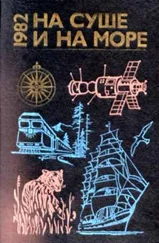Не успѣло еще солнце отдѣлиться отъ горизонта, едва алая полоса свѣта обожгла верхи зданій, какъ на плоту зашевелились; широкія двери-ворота, выходящія къ водѣ, на широкій приплотокъ, со скрыпомъ разинули свои темныя пасти, и сѣдой, крѣпкій старикъ, плотовой караульщикъ, сошелъ съ приплотка въ одну изъ рыбницъ, потомъ въ неводникъ и сталъ умываться прямо изъ-за борта, изъ прорана. Изъ-подъ нѣкоторыхъ пологовъ стали показываться ноги, взъерошенныя головы и заспанныя лица.
– Что рано поднялся, Иванъ Максимычъ? послышалось изъ близъ стоящаго полога, рѣдкая ткань котораго, позволяя видѣть окружающее, вполнѣ скрывала своего обитателя.
– Докуда спать-то, лежебоки, проворчалъ старикъ, отфыркиваясь отъ воды, забравшейся ему въ ротъ, – пра, лежебоки, спячку нажили отъ бездѣлья-то. Поди, чай, бока ломятъ. Вишь солнце-то!
Подъ пологомъ слышался тихій, сдержанный смѣхъ. Иванъ Максимычъ пользовался извѣстностію, какъ замѣчательный ворчунъ, и стоило разъ завести его, чтобъ привести въ движеніе всѣ шестерни, рычаги, зубчатыя колеса и валы, заключенные въ его подержанномъ корпусѣ. Все это начинало ворчать и скрипѣть, съ равнодушіемъ настоящаго механизма, не внося въ воркотню ни малѣйшей дозы воодушевленія или раздраженія. Только одно проклятое словечко «грыжа» способно было совершенно сломать скрипучій механизмъ Максимыча и выводило его изъ себя до такой степени, что въ немъ появлялись признаки не только человѣка, но даже и звѣря. Едва ли нужно говорить, что промысловый людъ, со скуки, безпрестанно заводилъ Максимыча, а иногда просто повреждалъ его механизмъ, хотя относился къ нему любовно.
– Максимычъ, ты чего это людямъ спать мѣшаешь, а? раздался молодой, рѣзкій и насмѣшливый голосъ изъ-подъ другаго полога. – Ишь куда умываться лѣзетъ, а! Нѣтъ тебѣ помпы то? [14] .
– Ни какъ это Андрюшка? Ахъ, жидъ! Ты бы въ гармонію то поменѣе занимался, а то гудетъ, гудетъ съ вечеру-то, часовъ до двухъ, чай. Молчалъ бы, а онъ, на, поди…. самъ никому покоя не даетъ, да еще…. Вотъ сказать Ѳедору Петровичу – закинутъ, только и всего, ворчалъ Максимычъ, пробираясь обратно къ приплотку съ мокрымъ лицомъ и руками.
Въ отвѣтъ изъ-подъ полога Андрюшки послышались тихіе, но бойкіе звуки гармоніи, отхватывавшей комаринскую, сопровождаемую общимъ смѣхомъ и ворчаньемъ Максимыча, съ которымъ старикъ исчезъ на плоту. Пока онъ вытиралъ влажное лицо чѣмъ-то вродѣ полотенца, способнымъ, кажется, только марать вытираемое, колеса, валы и шестерни продолжали движеніе и воркотня, и скрипъ не унимались. Они прекратили свой ходъ только тогда, когда Максимычъ сталъ передъ столбомъ подпиравшимъ верхніе переплеты плота и сталъ молиться на грошовые мѣдные складни, врѣзанные въ немъ. Ласточки, влетая и вылетая, сновали по обширному плоту. Бесѣда съ Богомъ продолжалась не долго, Максимычъ на минуту скрылся въ одномъ изъ чулановъ, отгороженныхъ на плоту, откуда возвратился съ половиною доски кирпичнаго чаю въ рукахъ.
– Бал а , а Бал а (по киргизски, мальчикъ)…. Балушка! обратился онъ къ какому-то бѣлому узлу, лежавшему на плоту. – Балушка, чего спишь, шайтанъ? ласково проговорилъ онъ, подергивая оболочку узла. Въ узлѣ что-то зашевелилось и послышалось полусонное мычанье и сладостное всхлипыванье; затѣмъ тамъ, повидимому, кто-то поднялся и сѣлъ, потому что бѣлая ткань вспучилась въ видѣ какой-то сопки или пика. Наконецъ, изъ-подъ сброшеннаго конца паруса появилась бритая голова киргизенка, вооруженная парой блестящихъ, веселыхъ глазъ. Они дѣлали все лицо симпатичнымъ и плутоватымъ, хотя оно, очевидно, было не совсѣмъ довольно въ эту минуту, – подъ парусомъ оказалось достаточное количество комаровъ.
– Гляди, комаръ-то что?… а… собака! вскочилъ киргизенокъ, съ ожесточеніемъ встряхивая парусъ.
– А, ты…. нечего тутъ, пора чай заваривать, произнесъ, улыбаясь, Максимычъ. Киргизенокъ схватилъ небольшой чугунный котелокъ, выскочилъ на приплотокъ и возвратился съ водою. Старикъ аккуратно накрошилъ чаю отъ полудоски и засыпалъ его. Вскорѣ небольшой огонекъ запылалъ на берегу, противъ плота.
Между тѣмъ, и кругомъ все поднялось, полога убирались и началось тоже чаевареніе и чаепитіе.
По промыслу начиналось движеніе; сновали рабочіе, плотники застучали топорами; пробѣжала къ берегу какая-то подтыканная баба съ коромысломъ и ведрами, за нею другая – и обѣ скрылись во флигелькѣ на берегу, гдѣ то же, кажется, начиналось чаепитіе. Такой же черномазый балушка два раза пробѣгалъ изъ домика прикащика къ берегу за водою и на крылечкѣ его давно шумѣлъ самоваръ.
Читать дальше

![Джеймс Баллард - И пробуждается море [Здесь было море]](/books/27389/dzhejms-ballard-i-probuzhdaetsya-more-zdes-bylo-mor-thumb.webp)