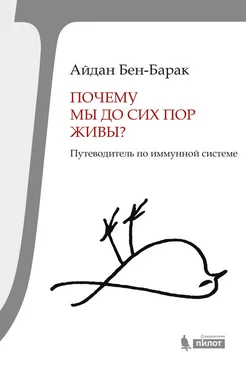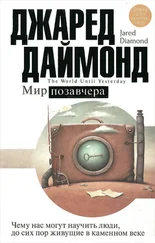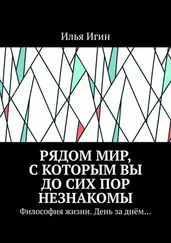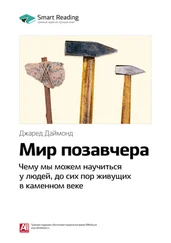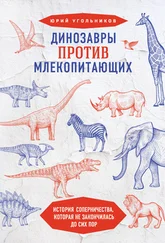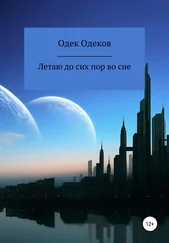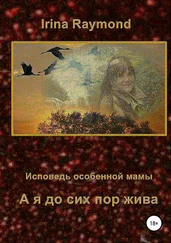Общая идея инструкционистских теорий кажется вполне логичной: она показывает, как возникает специфичность. Какое-то время инструкционистские теории пользовались довольно большой популярностью, однако в конечном счете каждую из них опровергли результаты экспериментальных исследований.
Вопрос разнообразия антител безумно сложен: организм словно бы избегает любых прямых путей создания такого огромного количества разновидностей антител – во всяком случае, таких путей, которые могут представить себе ученые. Проблему решили только в 1949 году, когда Фрэнк Макфарлейн Бёрнет предложил свою клонально-селекционную теорию. В сущности, это типичная селекционистская теория, к тому же дарвинистская до мозга костей. С первого взгляда она кажется неоправданно сложной. Однако эксперименты показали, что сложность у нее как раз достаточная.
В последние несколько дней наша гостиная выглядит весьма своеобразно. Дело в том, что мой старший сын упорно пытается использовать пути для своего бронепоезда Томаса как модель Мельбурнской железной дороги. При этом он старательно сверяется с картой. Как и создатели настоящих железных дорог, он боролся с нехваткой пространства и материалов. Перед ним не вставали проблемы заторов или отказов оборудования, хотя, с другой стороны, компании Metro Trains вряд ли приходилось сражаться с полугодовалым младенцем, постоянно пытающимся оторвать половину линии и съесть ее.
Строить хорошие модели непросто, даже если вы знаете, как эта штука должна в конце концов выглядеть. Создавать научные модели (представляющие тот или иной аспект природы) еще труднее. Ученые вот уже больше века стараются понять, на что похож иммунитет. В 1967 году Нильс Ерне, датский иммунолог, лауреат Нобелевской премии 1984 года, предсказал, что в ближайшие 50 лет все проблемы иммунологии удастся «решить целиком и полностью». Почему он произнес эти слова? Оказался ли он прав?
Датчанин Ерне стал, наряду с Фрэнком Макфарлейном Бёрнетом, Дэвидом Толмеджем, Питером Медаваром, Густавом Носсалем, Джошуа Ледербергом и прочими, одной из главных движущих сил новой эпохи иммунологии – эпохи, которая заняла всю вторую половину XX века и, в общем-то, продолжается по сей день.
Это новое племя исследователей состояло из биологов, и вполне естественно, что по образу мысли они отличались от своих предшественников – иммунологов, больше ориентированных на химию. Химики привыкли мыслить реакциями, структурами, химическими связями. А биологи умеют мыслить популяциями, поколениями, генеалогическими линиями. Они задают вопросы, больше относящиеся к процессам, которые идут в организме, а не к тем, что идут в пробирке. Химическое мышление сыграло важнейшую роль для понимания того, что антитела делают , встречая антиген. Но этого оказалось недостаточно, чтобы понять, как антитела вообще появляются в тех или иных участках организма.
Начиная с послевоенных лет и затем в 1950-е и 1960-е годы хлынул целый поток иммунологических работ, авторы которых начали как-то разбираться во всей этой неразберихе. Исследования во многом опирались на недавно разработанный инструментарий молекулярной биологии и на открытия, которые он позволил сделать. Вся биология тогда переживала замечательный период стремительного прогресса и постоянных открытий. Такие штуки, как гены, вдруг перестали быть теоретическими понятиями, становясь реальными объектами, которые можно выделить, которыми можно манипулировать, которые можно изучать. Работу клеток (работу самой жизни ) выясняли в лабораториях. И все это шло на пользу иммунологии. Не забудем, что именно в то время, в 1950–1960-е годы, появились эффективные вакцины против таких заболеваний, как грипп, полиомиелит и корь, спасшие миллионы жизней и избавившие человечество от страха перед этими болезными. Неудивительно, что в 1967 году Ерне проявлял такой оптимизм.
Модели, разработанные в середине прошлого века, до сих пор остаются актуальными: конечно, их модифицируют с учетом новейших открытий (как это всегда бывает в науке), но принципы остаются неизменными. Основные их идеи мы уже обсудили в предыдущих главах: организм создает широкий ряд клеток, вырабатывающих антитела; в ходе эмбрионального развития отсеиваются клетки, специфичные для аутоантигенов; прочие же клетки остаются в организме, циркулируя по нему, пока не появится чужеродный антиген, который и идентифицируется специфичной клеткой, после чего она осуществляет пролиферацию, производя множество идентичных копий самой себя, а эти копии начинают, в свою очередь, вырабатывать антитела.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу