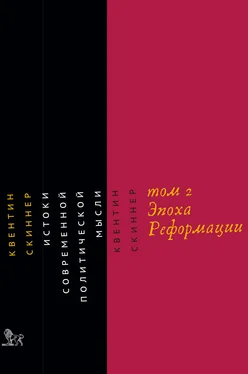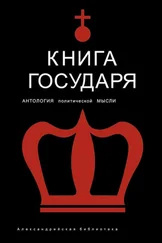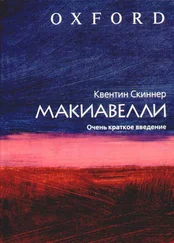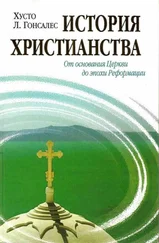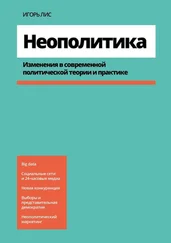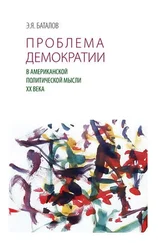За возражениями против статуса и властных полномочий Церкви последовало отрицание Лютером притязаний церковных властей на юрисдикцию в мирских вопросах. Иногда высказывается мнение, что он защищал «независимую от Церкви юрисдикцию государства» (Waring 1910, p. 80). Однако главное его убеждение в отношении Церкви состояло скорее в том, что если Церковь – всего лишь congregatio fidelium , то она вообще не может обладать отдельной юрисдикцией. Приводимый им аргумент можно понять неправильно, поскольку Лютер продолжает говорить о двух царствах ( Zwei Reiche ), через которые Бог осуществляет свое полное господство над миром. Христианин является подданным обоих «царств», и Лютер даже говорит о правлении духовным царством как «правлении правой рукой Бога» (Cargill Tompson 1969, pp. 169, 177–178). Впрочем, в целом ясно, что под правлением духовным царством он имеет в виду чисто внутреннюю форму правления, «правление души», не связанное с мирскими делами и всецело посвященное помощи верующим в деле спасения. В этом можно легко убедиться, если перейти к трактату «О светской власти: в какой мере ей следует повиноваться» (1523) – одному из ключевых произведений социальной и политической мысли Лютера. Лютер опирается на различение внезапного оправдания и последующего освящения уверовавшего грешника (Luther 1962b, p. 89). Говоря, что все христиане живут одновременно в двух царствах: царстве Христа и мирском царстве, Лютер приравнивает первое царство к Церкви, а второе – к мирской власти. В Церкви правит один Христос, Его полномочия всецело духовные, поскольку христиане по определению не нуждаются в принуждении. Царство мирской власти тоже установлено Богом, но существует отдельно, поскольку меч дан светским правителям лишь для того, чтобы блюсти гражданский мир среди грешных людей (p. 91). Таким образом, любая принудительная власть носит по определению мирской характер, в то время как полномочия папы и епископов должны состоять «только в том, чтобы нести слово Божье», и потому вообще «не являются властью» в мирском смысле слова (p. 117). Из этого следует, что любые притязания папы или Церкви на мирские полномочия представляют собой узурпацию прав, принадлежащих мирским властям.
Теологические предпосылки вынуждали Лютера не только выступать с нападками на юрисдикционные полномочия Церкви, но и заполнять образующийся вакуум. Речь шла прежде всего о санкции на беспрецедентное расширение полномочий светских властей. Если Церковь – не что иное, как congregatio fidelium , то мирские власти должны иметь исключительное право на всю принудительную власть, в том числе в отношении самой Церкви. Конечно, это не относится к истинной Церкви, представляющей собой чисто духовное царство, но несомненно ставит видимую Церковь под контроль благочестивого государя. Это не означает, что rex становится sacerdos или наделяется правом выступать с заявлениями, касающимися содержания религии. Долг благочестивого государя – содействовать проповеди Евангелия и защищать истинную веру. Но это означает, что Лютер готов признать систему независимых национальных церквей, в каждой из которых государи имеют право назначать и смещать должностных лиц, а также контролировать церковную собственность и распоряжаться ею. В начале «Обращения» Лютер подчеркивает: «Так как светская власть установлена Богом для наказания злых и защиты благочестивых, то круг ее обязанностей должен свободно и беспрепятственно охватывать все тело христианства, без всякого исключения, будь то папа, епископ, священник, монах, монахиня или кто-либо еще» (Luther 1966c, p. 130). Для Лютера это означает, что грандиозная теоретическая битва, которую вели на всем протяжении Средних веков сторонники regnum и приверженцы sacerdotium , завершилась. Идея папы и императора как параллельных и вселенских властей исчезает, и полномочия sacerdotium передаются светским властям. По словам Фиггиса, Лютер уничтожил «метафору двух мечей; отныне меч один и должен находиться в руках направляемого праведными советами и благочестивого государя» (Figgis 1960, p. 84).
Лютер делает еще более радикальный шаг в защите светских властей, когда переходит к рассмотрению оснований властных полномочий, на которые они могут законно рассчитывать. Все законодательные акты, настаивает он, суть прямой дар и выражение промысла Божьего. Поэтому неправильно считать, как Аллен, что Лютер никогда не ставил «вопроса о природе власти или ее происхождении» (Allen 1957, p. 18). Лютер высказывается предельно ясно: всякая политическая власть происходит от Бога, и он постоянно возвращается к месту, который считает самым важным библейским текстом о политическом обязательстве, а именно к указанию св. Павла (в начале главы 13 Послания к Римлянам) о том, что мы должны подчиняться высшим властям и считать существующие власти установленными Богом. Благодаря Лютеру эти слова Павла стали в эпоху Реформации самым цитируемым из всех текстов, посвященных основаниям политической жизни, и они лежат в основе его собственной аргументации в трактате «О светской власти». Лютер начинает с требования «поставить на твердое основание светский закон» и искать такое основание прежде всего в заповедании св. Павла: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога» (Luther 1962b, p. 85).
Читать дальше