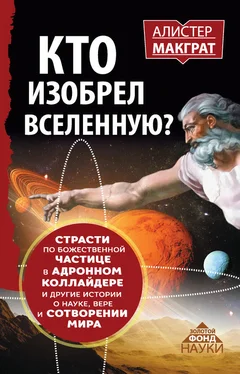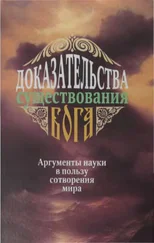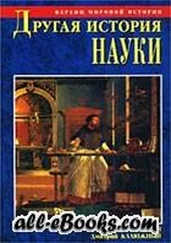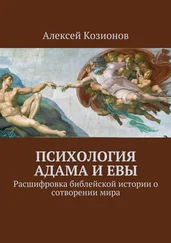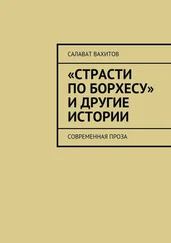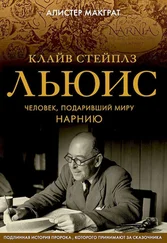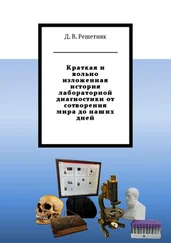В конечном итоге наука и сциентизм заставят нас отринуть как иллюзию даже то, о чем кричит весь наш сознательный опыт с самого рождения – от идеи, что когда мы думаем, наши мысли имеют отношение к чему бы то ни было вне и в пределах нашего сознания [322] Ibid., pp. 162–163.
.
Большинство читателей, пожалуй, оторопеют: это же замкнутый круг! Если мы от природы предрасположены к тому, чтобы питать «много ложных, но полезных представлений», как теперь разобраться, какие из наших представлений ложны, и исправить их? Ведь представления могут быть истинными или ложными, только если они к чему-то относятся. Розенберг ставит себе задачу избавить читателей от иллюзий – однако не дает им никаких надежных критериев, позволяющих отличить иллюзию от истины. Он лишает нас инструментария, необходимого, чтобы понять, переходим ли мы от иллюзии к истине или просто от одной иллюзии к другой.
Лучше всего развенчивают подобный подход отнюдь не религиозные авторы – они просто полагают, что он такой хитроумный, что сам себя опровергает, – а классические философы. Приведу пример – подход, которого придерживается мой коллега Тимоти Уильямсон, в настоящее время – уикхемский профессор логики в Оксфордском университете [323] Timothy Williamson , «What Is Naturalism?», New York Times, 4 сентября 2011. Разбор его собственных взглядов см. в книге Timothy Williamson , «The Philosophy of Philosophy», Oxford: Blackwell, 2007.
. Уильямсон подчеркивает, что у научного империализма, который разработали Розенберг и его единомышленники, есть одно слабое место: с его помощью невозможно объяснить непостижимую эффективность математики, о которой мы уже упоминали в разделе «Странная рациональность космоса». «Натурализм ставит естественнонаучный метод выше всех остальных, а между тем именно математика добилась едва ли не самых впечатляющих успехов за всю историю человеческих знаний». При этом математика не прибегает к экспериментальным и эмпирическим методам – она доказывает свои результаты исключительно логическими рассуждениями. Это никак не вписывается в сильно обедненные представления Розенберга о том, как мы исследуем реальность.
Если не относить чистую математику к естественным наукам, придется исключить математическое доказательство из области научного метода в нашем понимании. Ведь математическое доказательство, рассуждает Уильямсон, – это не менее эффективный путь к знаниям, чем эксперимент и наблюдение. Уильямсон приходит к выводу, что любая попытка «сконденсировать научный дух в философскую теорию» обречена на провал, поскольку «ни одна теория не способна заменить этот дух». И в самом деле, заключает он, «натурализм как догма – это очередной враг научного духа». Но главное даже не это: далее Уильямсон ставит под вопрос саму фундаментальную основу «мягкого нигилизма» по Розенбергу и приводит аргумент, который вполне можно считать последним гвоздем в крышку его гроба [324] Timothy Williamson , «On Ducking Challenges to Naturalism», New York Times, 28 сентября 2011 года.
. Уильямсон предлагает нам рассмотреть «главное утверждение натуралистов – что все истины можно открыть при помощи классической науки». Почему мы должны считать, что это верно? Где доказательная база этого утверждения? Ответ Уильямсона на этот вопрос нужно прочитать хотя бы дважды, чтобы уловить основную мысль. Но стоит ее уловить, и позиция Розенберга лишается правдоподобия, словно по волшебству.
Если верно, что все истины можно открыть при помощи классической науки, значит, классическая наука может открыть, что все истины можно открыть при помощи классической науки. Однако классическая наука не может открыть, что все истины можно открыть при помощи классической науки. «Все ли истины можно открыть при помощи классической науки?» – это вопрос, на который классическая наука не отвечает. Поэтому главное утверждение натуралистов не может быть истинным.
Когда я изучал естественные науки в Оксфорде – это было еще в начале семидесятых – главной темой для философских бесед у старшекурсников был «логический позитивизм» Альфреда Джулса Айера (1910–1989) и его круга. Айер, который был одним из предшественников Уильямсона на посту уикхемского профессора в Оксфорде с 1959 по 1978 годы, известен своим заявлением, что утверждение может иметь смысл только в том случае, если оно аналитическое (например, «у всех позвоночных есть хребет») или эмпирически доказуемое (например, «в океане есть рыба»). То есть согласно этому «принципу верификации» все метафизические утверждения и суждения о ценности бессмысленны и субъективны, а значит, лишены философской значимости.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу