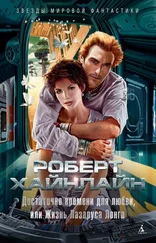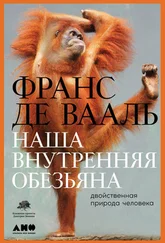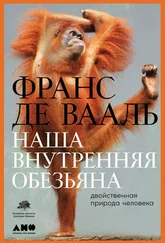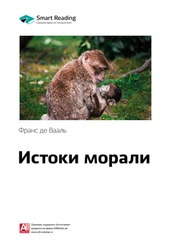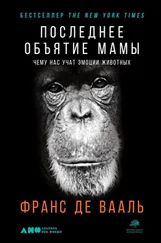Сохранение за человеком его привилегированной позиции на абсурдной шкале древних греков привело к одержимости терминологией, определениями и переопределениями и – следует это признать – потере верных ориентиров. Каждый раз, когда мы проверяем наши заниженные представления о животных в эксперименте, мы получаем любимый ответ зеркала. Предвзятые эксперименты должны вызывать подозрение, как и выводы на основе отсутствующих фактов. У меня самого множество отрицательных результатов исследований, которые я никогда не публиковал, потому что не знаю, как их интерпретировать. Они могут означать отсутствие данной способности у моих животных, но чаще всего, особенно если естественное поведение показывает обратное, я не уверен, что протестировал их должным образом. Я мог создать ситуацию, которая их отвлекла, или преподнести задачу в настолько непонятном виде, что они даже не пытались ее решить. Вспомните невысокое мнение о гиббонах, которого придерживались ученые, пока не догадались учесть строение их рук, или преждевременное отрицание способности слонов узнавать себя в зеркале, основанное на их реакции на зеркало, не подходившее им по размеру. Существует такое множество причин для отрицательных результатов, что лучше сомневаться в собственных методах, чем в чьих-то способностях.
Книги и статьи утверждают, что главная проблема когнитивной эволюции – выяснить, что отличает животных и человека. Этой теме были посвящены целые конференции, пытавшиеся ответить на вопрос: «Что делает нас людьми?» Но правда ли, что именно это – фундаментальный вопрос нашей области науки? Я лично сомневаюсь. Сам по себе он ведет в тупик. Насколько это важнее, например, чем отличия какаду от дельфина-белухи? В связи с этим я вспоминаю одну из мыслей Дарвина: «Тот, кто поймет бабуина, сделает для метафизики больше, чем Локк» {225}. У каждого вида есть что предложить в области познания, принимая во внимание, что его достижения – результат действия тех же природных сил, что создали нас. Представьте себе медицинский учебник, в котором утверждается, что задача этой дисциплины – найти уникальные особенности человеческого тела. Мы были бы чрезвычайно удивлены, потому что, хотя этот вопрос достаточно интересен, у медицины есть более существенные проблемы, касающиеся работы нашего сердца, печени, клеток, нервных синапсов, гормонов и генов.
Наука пытается понять, как устроена не печень крысы или печень человека, а печень – и точка. Все органы и процессы, которые в них происходят, значительно старше, чем наш вид, и эволюционировали несколько миллионов лет, приобретая незначительные изменения в каждом организме. Эволюция всегда действует таким образом. Почему познание должно чем-то отличаться? Наша первейшая задача – выяснить, как в целом работает познание, какие слагаемые для этого требуются и как они приспосабливаются к системе органов и экологии данного вида. Нам нужна единая теория для всех многообразных типов познания, которые встречаются в природе. Чтобы освободить место для этого проекта, я предлагаю объявить мораторий на утверждения о человеческой уникальности. Учитывая ничтожные достижения в этой области, пора закрыть ее на пару десятилетий. Это позволит нам разработать всестороннюю программу исследований. Когда-нибудь, через много лет, мы сможем вернуться непосредственно к нашему виду, вооруженные новыми концепциями, которые позволят нам лучше понять, что в человеческом уме уникально, а что – нет.
Одна из задач, которую необходимо решить во время этого моратория, – найти альтернативу подходу, в основе которого – мозговая деятельность. Я уже отмечал, что способность понимать состояние окружающих связана с телом, и то же самое относится к подражанию. В конце концов, подражание требует, чтобы движения тела другого индивидуума были восприняты и воспроизведены в движениях собственного тела. Считается, что за этот процесс отвечают зеркальные нейроны (специальные нейроны в двигательной коре головного мозга, которые активируются при наблюдении за действиями другого индивидуума). Приятно сознавать, что эти нейроны были открыты не у людей, а у макак. И хотя детали этого взаимодействия остаются под вопросом, подражание, по всей видимости, телесный процесс, который упрощается социальной близостью.
Это значительно отличается от представления о подражании как об умственном процессе, который нуждается в понимании причинно-следственных связей и целей. О том, какое представление соответствует действительности, мы знаем благодаря изобретательному эксперименту британского приматолога Лидии Хоппер. Хоппер снабдила шимпанзе коробкой, которая волшебным образом открывалась и закрывалась сама собой, предоставляя вознаграждение, а на самом деле управлялась с помощью рыболовной лески. Если техническое понимание – это все, что требуется, то наблюдения за этой коробкой должно было быть достаточно, чтобы понять все необходимые действия и их последствия. На практике оказалось, что наблюдение за коробкой в течение долгого времени обезьянам ничего не дало. Только после того, как они увидели другого шимпанзе, открывающего коробку, им стало понятно, как получить вознаграждение {226}. Таким образом, чтобы скопировать какое-либо действие, человекообразным обезьянам необходимо связать его с живым телом, предпочтительно своего вида. Техническое понимание нельзя считать основополагающим {227}.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
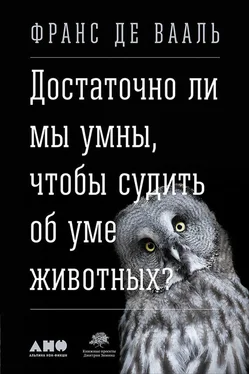

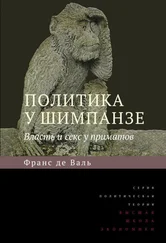

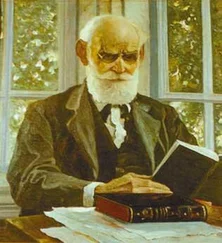
![Франс Вааль - Последнее объятие Мамы [litres]](/books/406055/frans-vaal-poslednee-obyatie-mamy-litres-thumb.webp)