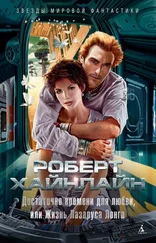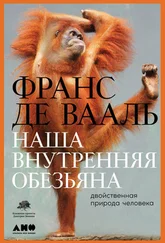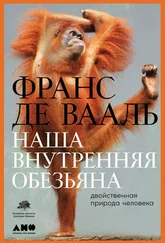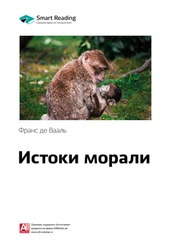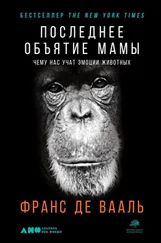При таких экспериментальных данных вся стратегия с переопределением подражания привела к обратному результату. В конечном счете именно человекообразные обезьяны больше подходили к определению истинной имитации. Они продемонстрировали выборочное подражание , сосредоточив внимание на задаче и способе ее решения. Если подражание нуждается в понимании, то его проявили обезьяны, а не дети, которые, за неимением лучшего определения, оказались способны лишь на тупое копирование.
Что было делать дальше? Премак выразил недовольство тем, что слишком просто было выставить детей «дураками» – как будто в этом была задача эксперимента! – когда на самом деле, по его ощущению, что-то неладно с интерпретацией результатов {214}. Он был неподдельно огорчен, что показывает, до какой степени человеческие страсти стоят на пути бесстрастной научной истины. Психологи без промедления обосновали новую концепцию, в которой сверхподражание – новый термин для детского неизбирательного подражания – это и есть по-настоящему выдающееся достижение. Оно соответствует доверию, которое наш вид испытывает к культуре, поскольку заставляет нас подражать поведению независимо от его предназначения. Мы копируем привычки целиком, не принимая собственных необоснованных решений. Учитывая бо́льшую осведомленность взрослых, лучшая стратегия для ребенка – подражать им, не задавая вопросов. В заключение с некоторым облегчением было сказано, что слепая вера – единственная рациональная стратегия.
Еще более поразительными были результаты исследований Вики на нашей полевой станции в Атланте. Эти исследования, рассчитанные на десять лет, мы проводили совместно с Уайтеном, сконцентрировавшись полностью на конспецифичном подходе. Когда шимпанзе предоставили возможность наблюдать друг за другом, их талант к подражанию проявился в полной мере. Обезьяны действительно обезьянничают, что обеспечивает беспрепятственную передачу поведенческих черт внутри группы {215}.
Видеозапись Кэти, копирующей ее мать Джорджию, служит хорошим примером. Джорджия научилась открывать небольшую дверцу в ящике и просовывать в отверстие прут, чтобы достать приз. Кэти пять раз подряд наблюдала, как это делает мать, повторяя каждое ее движение и обнюхивая ее рот, когда она доставала награду. После того как Джорджия ушла в другое помещение, Кэти наконец получила ящик в собственное распоряжение. Прежде чем мы успели добавить новые вознаграждения, Кэти одной рукой открыла дверцу, а другой просунула в отверстие прут. Сидя в таком положении, она смотрела на нас, находившихся по другую сторону окна, нетерпеливо постукивая по ящику и ворча, как бы призывая нас поторопиться. Как только мы положили призы в ящик, Кэти немедленно их достала. До этого ни разу не получив вознаграждение, Кэти в точности скопировала последовательность действий матери.
Тем не менее вознаграждение играет второстепенную роль. Подражание без вознаграждения широко распространено в человеческой культуре. Так, мы подражаем прическам, акцентам, движениям танца и жестам. Но оно также обычно у остальных представителей отряда приматов. У макак, живущих на вершине горы Арасияма в Японии, есть привычка тереть камни друг о друга. Молодые макаки приобретают ее без всякого вознаграждения, если не считать шума, который издают камни. Если нужен пример, опровергающий общепринятое представление о том, что подражание нуждается в поощрении, то это странное поведение – тот самый случай. Как отметил американский приматолог Майкл Хаффман, который десятилетиями изучал эту привычку: «Возможно, младенец впервые слышит этот стук еще в утробе матери, когда она играет камнями, а затем – это первая деятельность, которую он видит, когда его взгляд сфокусируется на окружающих объектах» {216}.
Слово « мода » по отношению к животным впервые использовал Кёлер, чьи человекообразные обезьяны все время придумывали новые игры. Они маршировали друг за другом по кругу, одной ногой топая, а другой легко ступая, и качали головами в едином ритме, действуя при этом синхронно, как в трансе. Наши шимпанзе месяцами развлекались игрой, которую мы называли «приготовление пищи». Они выкапывали ямку в земле, набирали воду, наполняя миски под краном поилки, и выливали ее в ямку. Затем они сидели вокруг ямки, помешивая грязь палочками, как будто готовили суп. Иногда три или четыре подобные ямки делались одновременно, и этим занятием была увлечена половина наших обезьян. В заповеднике шимпанзе в Замбии ученые обнаружили распространение еще одной привычки. Одна самка первой прицепила к своему уху сухие травинки, которые свисали оттуда, пока она гуляла или общалась с другими посредством груминга. С течением времени несколько шимпанзе последовали ее примеру, переняв эту «моду» {217}.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
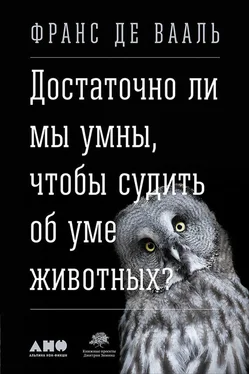

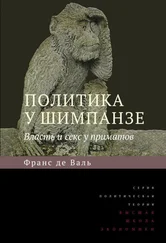

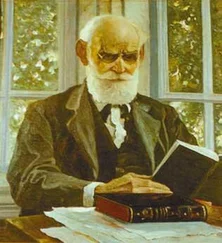
![Франс Вааль - Последнее объятие Мамы [litres]](/books/406055/frans-vaal-poslednee-obyatie-mamy-litres-thumb.webp)