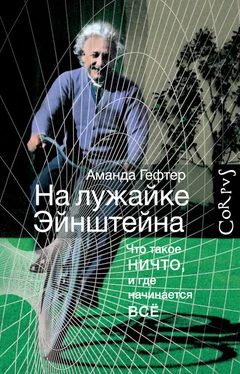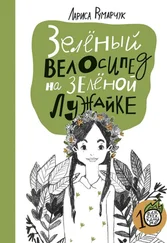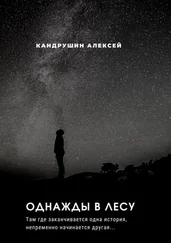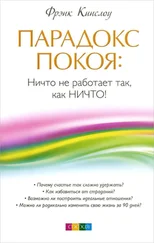Если уравнения специальной теории относительности уже были записаны Лоренцем в 1892 году, то что же тогда нового сделал Эйнштейн? – вопрошал Ровелли и тут же отвечал: «Он смог понять физический смысл преобразований Лоренца». Лоренц предложил правильную структуру, но неправильное толкование. Как сказал Ровелли, это была «не очень привлекательная интерпретация, удивительно похожая на современные интерпретации коллапса волновой функции. В своей статье 1905 года Эйнштейн прояснил ситуацию, указав причину беспокойства, возникающего, если подходить к преобразованиям Лоренца серьезно, – молчаливое использование концепции (не зависящего от наблюдателя времени), не пригодной для описания реальности».
Другими словами, это не длина объектов менялась волшебным образом, чтобы обдурить наблюдателей, а понятия пространства и времени зависели от состояния наблюдателя. Стоит только отказаться от их инвариантности, как все начинает приобретать смысл.
Может ли подобная реинтерпретация квантовых явлений придать смысл всем странным ad hoc объяснениям коллапса волновой функции и парадокса второго наблюдателя? Для Ровелли предыдущие решения проблемы, такие как онтологическая граница раздела между наблюдателем и наблюдаемым, предложенная Бором, или восприятие сознания как некоторой метафизической силы Вигнера, были «очень похожи на попытки Лоренца постулировать таинственное взаимодействие, сжимающее и растягивающее физические тела».
«Моя задача состоит не в том, чтобы изменить квантовую механику в соответствии с моим взглядом на мир, – писал Ровелли, – а в том, чтобы изменить мой взгляд на мир и привести его в соответствие с квантовой механикой».
Так что же необходимо было изменить?
«Понятие, которое отвергается здесь, это понятие абсолютного, или не зависящего от наблюдателя, состояния системы, равно как и понятие не зависящих от наблюдателя значений физических величин».
Или, выражаясь иначе: «Универсального, не зависящего от наблюдателя описания состояния мира не существует».
Тогда, в калифорнийской блинной, когда мы с отцом сделали наш список возможных ингредиентов окончательной реальности, мы не потрудились внести в этот список саму реальность. «Это было бы как вписать торт в список ингредиентов торта», – сказал отец. Но сейчас казалось, что если бы мы тогда внесли реальность в наш список, то теперь мы получили бы неизъяснимое удовольствие вычеркнуть и ее из этого списка. Согласно Ровелли, реальность сама зависела от наблюдателя. Что кажется безумием. Сама реальность не была реальной.
После того как вы отказываетесь от понятия независимых от наблюдателя квантовых состояний, парадокс второго наблюдателя исчезает. В конце концов, парадокс возникает из-за противоречивых описаний, которые Вигнер и его друг дают одним и тем же событиям. Но эти описания противоречивы, только если мы предположим, что существует единственная реальность, которую они оба пытаются описать. Друг Вигнера говорит, что волновая функция атома претерпела редукцию; Вигнер говорит: нет, атом и друг Вигнера сейчас находятся в состоянии суперпозиции. Что же происходит на самом деле? Согласно Ровелли, не существует никакого «на самом деле». Редукция волновой функции произошла для друга Вигнера. Но она не произошла для самого Вигнера. Вот и все.
«Основная мысль Бора и Гейзенберга, состоявшая в том, что „никакое явление не становится явлением, пока оно не становится наблюдаемым явлением“, должна применяться, следовательно, к каждому наблюдателю по-отдельности, – писал Ровелли. – Такое описание физической реальности, хотя и принципиально фрагментированно… но полно».
С одной стороны, это меня не удивило. Или, по крайней мере, не должно было. Я была подготовлена к этому всем тем, что узнала за это время. Мертв ли слон, обуглившись при приближении к горизонту, или жив, хотя и дрожит от ужаса, пересекши его? Ответ зависит от того, кому задан вопрос. Не существует глобального, божественного знания «истины». Истина зависит от наблюдателя. С другой стороны, Ровелли, казалось, возводит принцип зависимости от наблюдателя на другой качественный уровень. Он делает все зависящим от наблюдателя и в ходе этого заново переосмысливает квантовую механику.
Фундаментальная физика развивается благодаря парадоксам. Так было всегда. Парадокс, который привел Эйнштейна к теории относительности: законы физики должны быть одни и те же для всех, и в то же время, учитывая относительность распространения света, законы физики не могут быть одинаковыми для всех. Парадокс привел Полчински к открытию D- бран: открытые струны должны были подчиняться T- дуальности, и в то же время, учитывая их граничные условия, они не могли не нарушить T- дуальность. Еще один парадокс привел Сасскинда к открытию его принципа дополнительности: информация не должна бесследно исчезать в черной дыре, и в то же время, согласно общей теории относительности, информация не могла вырваться из черной дыры. И еще один парадокс заставил все физическое сообщество задаться вопросом, имеет ли каждый наблюдатель свое собственное квантовое описание мира: запутанность должна быть моногамной, и в то же время, учитывая принцип эквивалентности, запутанность не может быть моногамной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу