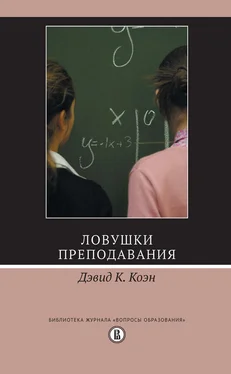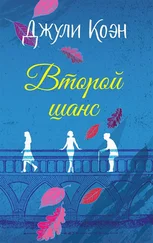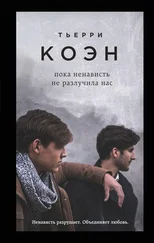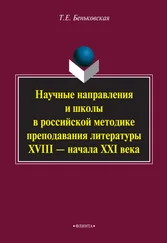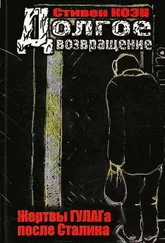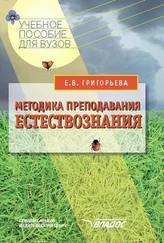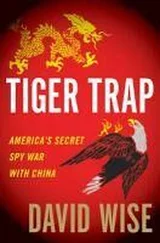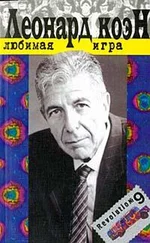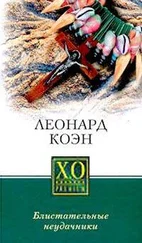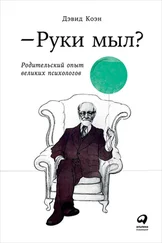Каждый вид отбора может дополняться мобилизацией на достижение целей. Психотерапевты стремятся работать с пациентами, которые осознают наличие проблемы, чувствуют, что им нужна помощь, могут заплатить и с высокой вероятностью пройдут весь курс. Элитные школы и университеты ищут студентов, которые действительно знают, что может им предложить данное учебное заведение, всей душой хотят этого и дают понять, что в полной мере используют предоставленные им возможности. Приглашение присоединиться к этой элитной группе также может мобилизовать клиентов. Учащиеся, которых принимают в элитную Академию Филлипса в Эндовере, в Гарвард или в лучшие государственные школы в Гарлеме, прилагают максимум усилий в учебе, поскольку сам факт приема в такие учебные заведения стимулирует очень сильно: ведь их сочли достойными, и теперь они работают в окружении равных, чье поступление в эти учебные заведения также делает их особенными. [51]В таких случаях селективный отбор может способствовать большему прогрессу клиентов, мобилизуя их желание оправдать ожидания и работать на совесть, что повышает их возможности. Если так, можно ли отделить талантливых кандидатов от тех, чьи возможности умножаются или создаются за счет отбора?
Отбор срабатывает еще и потому, что обычно предусматривает и перспективу отчисления. В случае неудовлетворительной работы клиентам предлагается сделать выбор: прилагать больше усилий или покинуть учреждение. Психиатры иногда обрывают курс, если пациент саботирует лечение, а элитные школы и университеты отчисляют учащихся за плохую успеваемость или несоблюдение правил. [52]Знание о вероятности такого исхода может мобилизовать настроенность на результат. Однако эффект может объясняться и другими причинами. Некоторые носят характер чисто экономический. Так, психиатрия становится заметно менее селективной по мере того, как в последние два десятилетия страховые компании все чаще отказываются возмещать стоимость «разговорной психотерапии». В недавнем репортаже в «Нью-Йорк таймс» говорится, что страховые компании возмещают затраты только на диагностику и назначение препаратов, но не стоимость классического диалога – поэтому психиатры принимают больше пациентов и каждому отводят не более 15–20 минут, успевая лишь вкратце опросить пациента и назначить ему препараты. [53]
Наконец, селективный отбор помогает учреждениям и клиентам лучше чувствовать обязательства друг перед другом. Одни могут считать отбор поводом для учреждений или специалистов-практиков пообещать клиентам: «Улучшение возможно, только если вы тоже будете стремиться к цели, но если окажется, что вы не прилагаете усилий, мы можем быть вынуждены расторгнуть контракт. Поэтому мы ожидаем, что вы сделаете все возможное, чтобы добиться успеха». Такие заявления делать гораздо труднее, когда учреждения обещают улучшение всем желающим. Это заявление совсем иного рода – здесь, не оговаривая условий участия, обещают: «Мы поможем каждому». В том, что они обещают осчастливить всех обращающихся, нет ничего удивительного, иначе как бы они оправдали свою готовность принимать всех без ограничений? Дать-то обещание можно, но как его сдержать? Одна проблема, о которой я уже упоминал, состоит в том, что расставаться с неудачным клиентом значительно труднее в тех учреждениях, которые обещают или вынуждены обещать «улучшение» для всех. Отвергнуть клиента в данном случае означает, что обещание сдержать не получилось и, следовательно, давшее его учреждение не оправдало ожиданий. Если учреждение обещало помочь всем и каждому, чем оправдать неудачу клиента или прекращение оказания услуги? Обещать всеобщее совершенствование – значит оставить учреждениям и практикующим специалистам меньше оснований для выполнения обязательств перед клиентами. Это может привести специалистов-практиков к снижению уровня достижений, к какому они стремятся, чтобы считать свою работу успешной, – ибо таким образом они уменьшат и вероятность нарушения обязательств.
Нечто подобное произошло в государственном образовании: всеобщий охват им и его обязательность привели к безосновательным обещаниям, преуменьшая роль учащихся в процессе собственного совершенствования и завышая возможности школ и педагогов. Поскольку государственные школы США за период с конца XIX до середины XX века практически перешли к всеобщему школьному образованию, у них выработались адаптационные механизмы для решения описанной проблемы: объединять учащихся в группы в зависимости от их способностей, варьировать сложность учебных планов и переводить в следующий класс даже тех, кто плохо успевает, – все это формирует у учеников иллюзию того, что они «преуспели» в школе, хотя на самом деле особенных успехов в их образовании не наблюдается. [54]Чем громче школы обещали обеспечить равенство благодаря всеобщему образованию, тем большее неравенство они порождали тем образованием, которое предлагали. В ответ на усилившееся неравенство в конце XX и начале XXI века правительства стали настаивать на распространении и усилении элементов обязательности в государственном образовании (включая установление требований к учителям и уровню достижений учащихся), на расширении возможностей выбора, создании рынков школьного образования и его диверсификации.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу