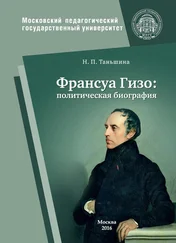Делёз добавляет: «Только если поближе посмотреть на Феликса, можно заметить, что он очень одинок. Между двумя занятиями или среди множества людей он может погрузиться в глубокое одиночество»4 [49] Ibid., p. 218.
. Делёз поясняет своему японскому другу, что в Гваттари он видит выдумщика, наделенного изобретательностью и подвижностью, какую ему редко доводилось встречать: «Его идеи – рисунки или даже диаграммы. А меня интересуют концепты» [50] Ibid., p. 219.
.
Своим концептом машины и предложением заменить ею понятие структуры Гваттари дает Делёзу возможность выйти за пределы структуралистской мысли, которую тот искал уже в «Логике смысла». В том, что касается критики Лакана и его тезиса о том, что «бессознательное структурировано как язык», а также по части политического сознания Гваттари сильно обгоняет своего друга на момент их знакомства в 1969 году. Хотя у Делёза и остались некоторые наработки в области истории философии, в 1972 году он признаёт, что отстает от своего друга в некоторых важных сферах:
Но я работал только с концептами, и притом довольно робко. Феликс рассказывал мне о том, что он называл машинами желания: это была целостная теоретическая и практическая концепция машины бессознательного, бессознательного шизофреника. Тогда у меня было впечатление, что именно он опережал меня [51] Жиль Делёз, Переговоры, с. 26.
.
Итак, это было счастье совместной работы, общего вклада, юмора, искреннего веселья. Более того, по словам их общего друга Жерара Фроманже,
….они гордились друг другом, каждый считал, что другой оказывает ему честь, выслушивая его. У них было необычайное доверие друг к другу, как у непохожих близнецов, которые дополняют друг друга. Между ними не было никакой зависти, они ничего друг от друга не утаивали во время рабочих сессий. Именно это обусловило качество их работы, эта тотальная открытость, дар доверия [52] Жерар Фроманже, интервью с Виржини Линар.
.
Итак, вдвоем они создают настоящую лабораторию по испытанию эффективности концептов благодаря трансверсальному характеру их метода. Главное, что Гваттари дал Делёзу, – это глоток свежего воздуха в затхлой атмосфере: «Чувствовалось, что знакомство с Феликсом принесло ему радость. Когда они виделись, было впечатление, что они рады друг другу. К тому же они виделись не слишком часто, зная, что отношения между людьми могут быстро портиться» [53] Жан-Пьер Фай, интервью с Виржини Линар.
.
Различие в характерах Делёза и Гваттари рождало то, что можно было бы назвать двухтактовым двигателем: «У нас всегда был разный ритм. Феликс упрекал меня, что я не реагирую на письма, которые он мне посылал: а я просто не мог ответить сразу. Я мог воспользоваться ими только позднее, через месяц-другой, когда Феликс уже ускакал в другую сторону» [54] Жиль Делёз, письмо Куниичи Уно, см.: Deux régimes defous, p. 219–220.
. Зато в схватках, происходивших на рабочих сессиях, они загоняли друг друга в окопы до полного изнеможения обоих, пока обсуждаемый спорный концепт не отрывался от земли, освободившись от сковывающей его оболочки, благодаря работе по умножению и рассеянию: «По-моему, у Феликса были настоящие молнии прозрения, а я выступал своего рода громоотводом, я его заземлял, чтобы это могло родиться в другой форме, но Феликс начинал сначала, так мы и продвигались» [55] Там же.
.
В августе 1971 года проходит последняя длинная сессия совместной работы над «Анти-Эдипом» в Тулонском заливе, в Брюссюр-Мер. Оба семейства вместе с детьми снимают там дом, чтобы мужчины могли работать, пока остальные купаются и загорают на пляже. Дата завершения текста носит символический характер: «Какое тонкое совпадение, наша книга закончена 31 декабря, как бы отмечая, что концы – это начала. Получилась славная работа, в которую вы внесли вашу творческую силу, а я – свои усилия по изобретению и подгонке [концептов]» [56] Жиль Делёз, письмо Феликсу Гваттари, без даты, архивы IMEC.
.
Однако в момент публикации книги в марте 1972 года Гваттари переживает сложное время. Чрезмерная активность и титанические усилия, понадобившиеся для этой работы, грозят разладом, чувством пустоты. Результат никогда не стоит тысячи и одной открывающейся возможности работы воображения и беспрерывного веселья творческого процесса: «Желание свернуться калачиком, стать маленьким-маленьким, покончить с этой политикой публичности и престижа. Настолько, что я даже злюсь на Жиля за то, что он затащил меня на эту каторгу» [57] Félix Guattari, Journal, 13 novembre 1971, La Nouvelle Revuefrançaise, № 564, janvier 2003, p. 357.
. В «Дневнике» сравнение с эффективностью Делёза обычно его удручает: Делёз «работает много. Нас даже и сравнивать нельзя! Я скорее закоренелый самоучка, бриколер, герой в стиле Жюля Верна….» [58] Félix Guattari, Journal, 6 octobre 1972; цит. по: Nadaud, Écrits pour L’Anti-Œdipe, p. 490.
Когда же сборка подходит к концу, как это происходит с завершением книги и ее публикацией, Гваттари не скрывает своих личных страхов: «Сохранить свое перо, свою собственную манеру. Но я на самом деле не узнавал себя в АЭ [„Анти-Эдипе“]. Необходимо перестать бегать за образом Жиля и за завершенностью, за совершенством, которое он в самом конце работы внес в книгу» [59] Félix Guattari, Journal, 13 octobre 1972, ibid., p. 496.
. Его внезапно охватывает страх поглощения, утраты идентичности: «У него всегда на уме произведение. Для него [Жиля] то[, что я делаю,] всегда будет просто заметками, каким-то сырьем, которое исчезает в конечной сборке. Поэтому я в какой-то мере чувствую себя немного перекодированным „Анти-Эдипом“» [60] Félix Guattari, Journal, 6 octobre 1972, ibid., p. 490–491.
.
Читать дальше
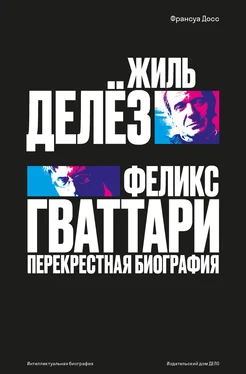



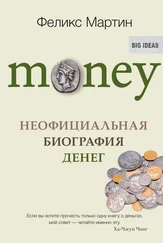
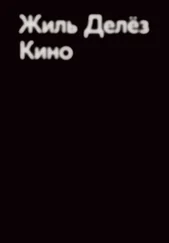

![Наталия Таньшина - Франсуа Гизо - политическая биография [litres]](/books/396482/nataliya-tanshina-fransua-gizo-politicheskaya-biogra-thumb.webp)