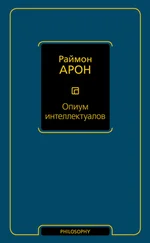На исходе войны за испанское наследство*, после вторжения противника в Северную Францию, Фенелон произнес несколько проповедей, убеждая жителей завоеванных областей, что их мучения – справедливая кара за грехи. Нетрудно догадаться, какой прием оказали бы проповеднику, который заговорил бы с французами таким языком в августе 1914 года (a). – Как обращается сегодня церковь поучаемая с церковью поучающей, если последняя говорит ей не то, что она желает услышать, – об этом можно судить по приему, оказанному тридцать лет назад о. Оливье с его проповедью о жертвах пожара в «Базар де ла Шарите»*.
(a) В 1940 году французы, однако же, покорно выслушивали обличительные слова от человека мирского; правда, тот говорил им, что они искупают вину за демократию.
То же можно сказать и о философах, которые сейчас в большинстве своем, включая и самых известных, не живут как Декарт или Спиноза, но женаты, имеют детей, занимают посты, находятся в гуще жизни, – в чем, по-моему, нельзя не усмотреть связи с «прагматическим» характером их учения. (См. об этом мою работу: Sur le succès du bergsonisme, p. 207.)
Настало царство (во Франции, похоже, вечное) острого ума, обладающего свойством, разоблаченным в метком высказывании Мальбранша: «Тупица и остроумец одинаково закрыты для истины, с тою, однако, разницей, что тупой ум чтит ее, а острый ум – презирает».
Зрелище демократий может удовлетворить иную художественную чувствительность: ту, которую волнует не созерцание порядка, а созерцание равновесия, достигнутого между противоположными по природе силами (об этом различении см. замечательный труд М. Ориу: M. Hauriou. Principes de droit publique, сhap. I). Однако восприимчивость к равновесию гораздо более интеллектуальна, чем собственно художественная восприимчивость. См. прим. Q на с. 234.
Точнее, со времен высокомерного романтизма, о котором мы говорили ранее. Желание художника видеть в себе исключительное существо восходит к Флоберу; Гюго и Ламартин никогда не питали такой слабости.
Это отвращение особенно сильно у Ницше. (См.: Веселая наука, loc. cit <���§354>, где обобщение становится синонимом пошлости, поверхностности, глупости.) Ницше, как истый художник, неспособен понять, что восприятие общего может быть гениальным актом; например, схватывание общего в движении планет и падении яблока, в дыхании и коррозии металлов.
Недаром их подвергали гонениям рьяные поборники «священного эгоизма». Известны обвинительные речи Бисмарка, Вильгельма II, Наумана, Х. С. Чемберлена против классического образования.
Напомним, что Ницше на самом деле чтит лишь античную мысль досократического периода, поскольку она не проповедует всеобщее.
Иногда цитируют слова того же Барреса, сказанные одному «дрейфусару» в 1898 году: «Зачем вы мне твердите о справедливости, о гуманности? Что для меня дорого? Несколько живописных полотен в Европе и несколько кладбищ». Другой наш крупный политический реалист, Моррас, однажды сознался в присущей ему глубокой потребности «наслаждаться». Еще Сократ говорил Протагору, что в основу своего учения тот положил жажду ощущений.
Трудно отрицать, что пацифизм, гуманитаризм, альтруизм скучны. Однако искусство, наука, философия, без сомнения, предоставляют достаточно возможностей «забавляться», обходясь без доктрин, раздувающих в мире пожар. Но это мысль человека, не терзаемого жаждой чувствовать.
Не для одних реалистов политическая позиция сегодня – это и дополнительная возможность испытать сильные чувства; у Виктора Гюго и Мишле гуманитаризм, конечно, далек от того чистого интеллектуального звучания, какое он имел у Спинозы и Мальбранша. (См. выше различение гуманитаризма и гуманизма.)
«Мир есть не отсутствие войны, но добродетель, проистекающая от твердости духа» (Спиноза).
Вот пример: «Всеобщий мир когда-нибудь установится не потому, что люди сделаются лучше – на это нет оснований надеяться, – но потому, что новый порядок вещей, наука будущего, вновь возникшие экономические нужды предпишут им состояние мира, как некогда условия существования толкали людей к вражде и удерживали в состоянии войны» (Анатоль Франс. На белом камне)*. Мы видим тут отмеченное нами выше неверие в возможное совершенствование человеческой души.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
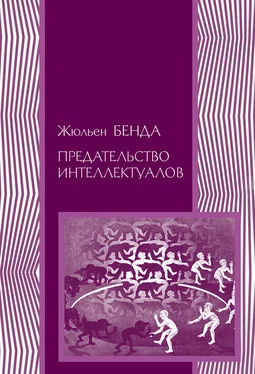



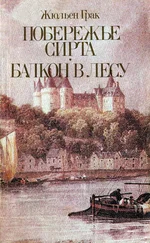



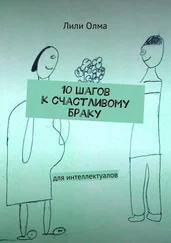
![Дмитрий Спирин - Тупой панк-рок для интеллектуалов [litres]](/books/387910/dmitrij-spirin-tupoj-pank-thumb.webp)