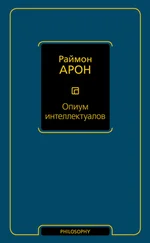Твердое намерение уважать разум в зависимости от его практической эффективности чувствуется и в такой вот странной формулировке: «Ценность критического ума состоит в действии, которое он производит благодаря тому, что вносит ясность» (Моррас). Отсюда же суровость г-на Массиса (Massis. Jugements, I, 87) к Ренану, воскликнувшему: «Я ненавижу пользу»; в другом месте (ibid., 107) тот же автор говорит о духовной свободе, что «ее беспристрастность есть только отрицание условий жизни, действия и мышления (!)».
Иногда прибавляют: «и антинаучная», что неопровержимо, когда «научный» становится тождественным «практическому». «Воспитывать детей в религиозной традиции, – говорит г-н Поль Бурже, – значит воспитывать их в научном духе». Весьма справедливые слова, если «в научном духе» означает, как у автора, «в соответствии с национальным интересом».
Французские традиционалисты осуждают истину саму по себе пуще всего во имя «социальной» истины; это – восхваление предубеждений, явление совершенно новое у потомков Монтеня и Вольтера. О некоторых французских мэтрах можно сказать, что никогда еще не было столько рвения защищать интересы общества у тех, чья обязанность – отстаивать интересы духа.
Осуждение бескорыстной умственной деятельности достаточно ясно выражено в этом предписании Барреса: «Все вопросы должны решаться по отношению к Франции»; один немецкий мыслитель вторит ему в 1920 г.: «Все завоевания древней и современной культуры и науки мы рассматриваем, прежде всего, с немецкой стороны» (цит. по: Ch. Chabot. Préface de la trad. fr. des «Discours à la nation allemande», p. XIX). – Относительно возвышения полезного заблуждения см. удивительный пассаж из «Сада Береники»*, приведенный и прокомментированный Пароди (Parodi. Traditionalisme et Démocratie, p. 136).
Шарль Моррас отмежевывается здесь от своего учителя де Местра, говорящего о «божественной стихии, которая однажды примет всех и вся в свое лоно». Но даже автор «Санкт-Петербургских вечеров»* вскоре прибавляет: «Однако я остерегаюсь затрагивать личностность, без которой бессмертие – ничто».
О присутствии идеи имманентности почти у всех христианских теологов вплоть до наших дней см.: Renouvier. L’idée de Dieu («Année philosophique», 1897), а также: Id. Essai d’une classification des doctrines. 3: l’évolution; la création.
Для Гегеля Бог постоянно возрастает за счет своей противоположности; деятельность его есть главным образом борьба и победа.
Отметим, однако, в «неотомизме» резкий протест против этой концепции.
Сравните, например, осуждение Розмини с осуждением Мейстера Экхарта*, когда положения вроде следующих: «Nulla in Deo distinctio esse aut intelligi potest» («В Боге невозможно или немыслимо что бы то ни было неоднородное»)*; «Omnes creaturæ sunt purum nihil» («Все твари суть чистое ничто») – были объявлены не еретическими, а только «плохо звучащими, слишком смелыми и подозрительными в отношении ереси».
Задумаемся над тем, что еще в 1806 году Гегель после сражения при Йене беспокоился лишь о том, где найти пристанище, чтобы философствовать; в 1813 году Шопенгауэр был совершенно равнодушен к национальному подъему в Германии, вызванному вторжением армии Наполеона.
«Никто не вправе быть безразличным к бедствиям своей страны; но у философа и христианина всегда есть для чего жить. В Царстве Божием нет ни победителей, ни побежденных; там вкушают радости сердца, ума и воображения, и побежденный наслаждается больше, чем победитель, если он выше нравственно и духовно. Разве ваш великий Гёте, ваш достохвальный Фихте не научили нас, как вести благородную и, стало быть, счастливую жизнь, невзирая на внешнее унижение отчизны?» (Renan. Première lettre à Strauss).
Ницше, которого, исходя из сути его учения, я считаю плохим интеллектуалом, вместе с тем интеллектуал в самом чистом виде, так как он всецело отдается лишь страстям разума.
Пример – Мориак. (Прим. в изд. 1946 г.)
Разумеется, я никоим образом не ставлю под сомнение искренность так называемых благомыслящих литераторов. Некоторым людям выпадает счастье искренне занимать как раз те позиции, что наиболее выгодны.
Об этом ясно свидетельствует недовольство, с каким французская буржуазия встретила недавно распоряжение своего «духовного главы», запретившего ей чтение одного периодического издания, доктрины которого пришлись ей по вкусу («L’Action française»). Чтобы оценить перемену, вспомним такой исторический факт: когда сто лет назад Папа предписал французским католикам соблюдать закон против иезуитов, принятый правительством Карла X, все подчинились.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
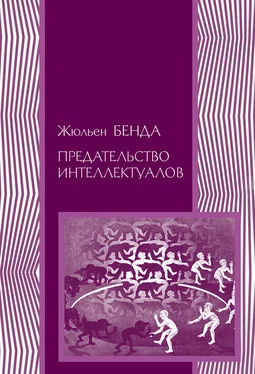



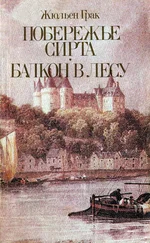



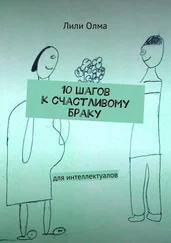
![Дмитрий Спирин - Тупой панк-рок для интеллектуалов [litres]](/books/387910/dmitrij-spirin-tupoj-pank-thumb.webp)