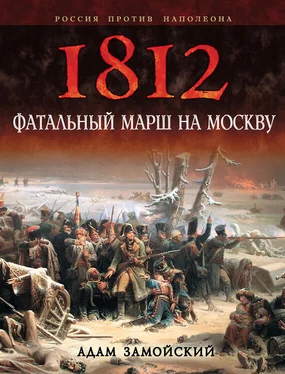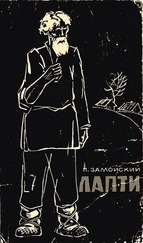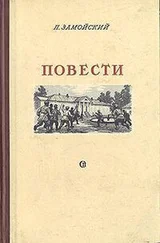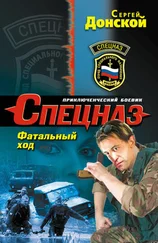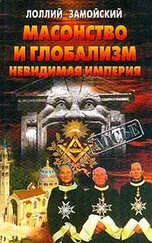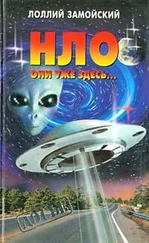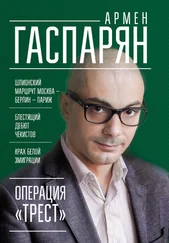«Чернь привыкла к войне и видела резню, – писал Ростопчин Александру после долгого разговора с Балашовым осенью 1812 г. – Наши солдаты грабили их вперед неприятеля, и теперь, когда Бонапарт, как по всему видно, выскользнул из наших рук, было бы неплохо, пока мы готовимся к битве с ним, подумать о мерах для борьбы с вашими и отечества врагами внутри империи» {1001}. Опасения вовсе не были беспочвенными.
9 декабря, покуда остатки Grande Armée брели в Вильну, взбунтовался недавно набранный в Пензенской губернии и дислоцированный в городке Инсар 3-й пеший полк ополчения. Солдаты схватили своих офицеров, избили их и проволокли по улицам, после чего взяли под стражу. Начали сооружать виселицы, собираясь вздернуть их, но поддались соблазну пограбить, а потом принялись неистовствовать. Сумевший сбежать из города офицер очутился в сельской местности, где тут же обнаружил, что крестьяне не на шутку возжаждали крови – его и местных помещиков. Мятеж охватил и другие гарнизоны Пензенской губернии, но был подавлен с помощью регулярных войск и артиллерии. [237]Как выяснилось в ходе расследования, крепостные крестьяне, ставшие ратниками, считали себя заслужившими свободу пребыванием в ополчении и бурно отреагировали, когда им разъяснили всю глубину их заблуждения [238]. Три сотни бунтовщиков по приговору прогнали сквозь строй, вследствие чего умерли тридцать четыре человека {1002}.
Нашествие французов изменило взгляды так или иначе затронутых им крестьян, вне зависимости, были ли они жертвами, партизанами, ополченцами или солдатами регулярных частей. Они страдали или сражались вместе с господами за одно и то же отечество, и им казалось справедливым, что те осознают и учтут данный факт.
Особенно обиженными чувствовали себя воины, призванные в ходе 1812 г. В манифесте при их наборе четко говорилось, что отчизна ждет от них защиты в тяжкий момент, когда же противника выгонят вон из страны, их отпустят назад к семьям. Вместо того им предстояло маршем пройти всю Европу, сражаться в двух кампаниях и возвратиться в Россию лишь спустя три года. На пути в Париж они видели, что крестьяне в любой из стран не только живут лучше, но и пользуются неслыханной для них самих свободой. Они ощущали себя заслужившими, как минимум, некоторого облегчения своей доли. «Мы проливали кровь, а теперь они хотят, чтобы мы вернулись и проливали пот, работая на господ! – негодовали русские ратники в разговорах между собой. – Мы спасли отечество от тирана, а теперь хозяева хотят тиранить нас!» {1003}
Когда пришло время для армии начать длинный марш из Парижа на родину, многие поступали вполне разумным образом. «В первую ночь на стоянке сбежали двенадцать наших лучших солдат, а во вторую – еще больше, так что за трое суток марша рота потеряла пятьдесят человек», – писал капитан A. K. Карпов {1004}. И его опыт вовсе нельзя считать исключительным. Приходилось принимать особые меры, а не то армия чего доброго и вовсе бы растаяла на пути домой.
Молодой Пушкин, тогда учившийся в Царскосельском лицее под Санкт-Петербургом, написал посвященную возвратившемуся из Парижа Александру оду, полную радости и предвкушения чего-то особенного в будущем. Он выражал воодушевление поколения, надеявшегося на преобразование страны царем. Для них события последних двух лет послужили толчком к духовному пробуждению, они верили в способность России, оправдав их ожидания, пойти путем слома разделявшей нацию иерархии. И в то время как будущие реформаторы по большей части отметали иноземные ценности, в особенности французские, они, тем не менее, представляли себе определенный процесс возрождения, который превратит Россию в прогрессивное либеральное государство.
Унизительные поражения в ходе нашествия и осквернение их страны французами отозвались глубинной реакцией во всем русском обществе, принявшемся искать утешение и источник сил в собственной истории и традициях. Этническая мода, музыка и танцы вторглись во дворцы аристократии. Граф Остерман-толстой дошел до того, что велел ободрать французский декор главной спальни своего дворца в Санкт-Петербурге и заменить его неотесанными бревнами, создав некую имитацию русской крестьянской избы. Однако подобные экстравагантные проявления вовсе не обязательно служили прелюдией к изменению отношения к самому народу – то есть фактически к крестьянам.
В то время как творцы увековечивали образ патриота в шинели простого солдата на картинах и гравюрах, когда он становился героем поэм и рассказов и даже, по крайней мере, одной популярной пьесы, где крестьянин дорос до офицерского звания, все эти благостные порывы совершенно никак не влияли на действительность. Победа победой, а крепостным предстояло вернуться на свои прежние места и приступить к работе. Все возвращалось на круги своя и не только в отношении крестьян. Например, когда вдруг выяснилось, что улан, заслуживший Георгиевский крест за храбрость, еврей, ему запретили носить награду {1005}.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу