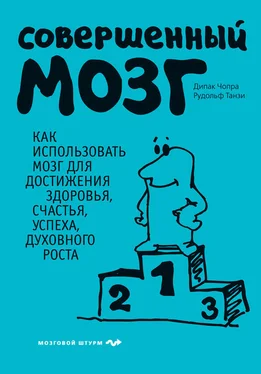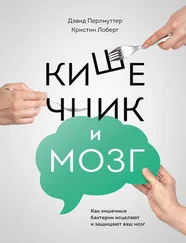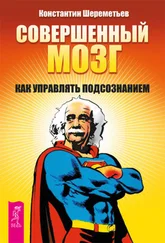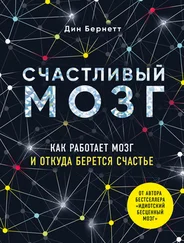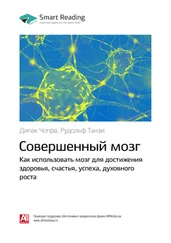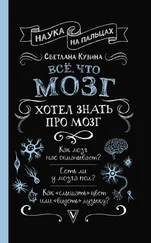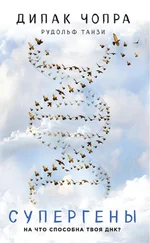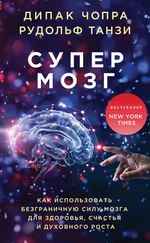В умении распознавать лица есть и другая сторона. Некоторые люди являются «суперраспознавателями». Это пока еще мало изученное явление. Они запоминают практически любое лицо, которое когда-либо видели. Они могут подойти к человеку на улице и спросить: «Помните меня? Вы продали мне пару туфель в магазине Macy’s десять лет назад». Естественно, человек, к которому обращаются, почти никогда этого не помнит. Такие встречи столь поразительны, что суперраспознавателей иногда обвиняют в преследовании людей – иначе как объяснить такую память?
И даже бег времени не подводит таких людей. Когда суперраспознавателю показывают фотографии 7–8-летних детей, которые впоследствии стали голливудскими звездами, он сразу же распознает, чьи лица изображены на снимках. Одну такую женщину спросили, как она это делает, и она лишь пожала плечами: «Для меня стареющее лицо изменяется лишь поверхностно, как перекрашивание брюнетки в блондинку или новая прическа». Глубокие морщины 80-летнего человека не скрывают сходства с тем же лицом, сфотографированным в третьем классе школы.
Если неспособность распознавать лица объясняется дефектами мозга, то что же тогда такое суперраспознавание?Чтобы ответить на этот вопрос, следует понять, как люди вообще распознают лица. Во-первых, когда вы встречаете женщину определенного возраста, вы не сверяете ее внешность со списком, в котором глаза, волосы, нос, рот присутствуют по отдельности – как это делают страдающие прозопагнозией. Вы узнаете ее сразу: «О, это моя мама». И такая способность имеется у ребенка практически с рождения. Мозг формирует целостный неделимый образ, называемый гештальтом. Таким образом, в нашей биологии заложена способность распознавать все лицо сразу, а не по частям.
Однако тут многое остается неясным. Известно, что когда фотоны света стимулируют клетки сетчатки, в зрительную кору передаются отдельные сигналы, но не изображение. Зрительный нерв превращает эти сигналы в нейронное сообщение, у которого нет формы или яркости. Эта информация проходит, по крайней мере, через пять или шесть стадий обработки. Светлые и темные области сортируются, контуры обнаруживаются, шаблоны декодируются и так далее. Но никто не имеет ни малейшего представления о том, как наш мозг узнает человека, когда вы восклицаете: «О, это моя мать». Шесть стадий этой обработки ничего не дают нам. Разработчики компьютеров и искусственного интеллекта пытались заставить машины распознавать лица, используя разношаблонные сигналы. Результаты этих попыток не очень-то успешны. Если человек видит фотографию знакомого лица даже слегка не в фокусе, он без проблем узнает, кто это, но даже самый умный компьютер заходит в такой ситуации в тупик.
Однако если перевернуть фотографию знакомого лица, мы теряем способность распознавать его. Вы можете проверить это, открыв какой-нибудь журнал со снимками знаменитостей и перевернув его. Знакомые вам портреты станут неразборчивой головоломкой. Зато компьютеру, созданному для распознавания лиц, все равно, перевернуто изображение или нет. Он запрограммирован на распознавание лиц в любом положении. Почему же эволюция дает нам возможность суперраспознавания лиц, но не позволяет распознать перевернутые лица?
Наш ответ не будет касаться мозга. Мы бы сказали, что человек не нуждается в распознавании перевернутых лиц, поэтому у нас и не развилась такая способность. Дарвинист посчитал бы такое утверждение абсурдом. С точки зрения строгих дарвинистских позиций у эволюции нет никакой цели. Для Руди как исследователя-генетика позволить включенным в это уравнение намерение – есть чистое донкихотство. Но он убежден, что мозг растет и развивается в соответствии с требованиями психики. В качестве доказательства мы указываем на постоянно меняющуюся картину связи психика – мозг. Если нейропластичность доказывает, что поведение и образ жизни могут изменить мозг, не будет большой натяжкой назвать этот процесс эволюционным. По мере нашего развития наш мозг и гены постепенно видоизменяются.
И на данном этапе развития нейробиологии понятие «предрасположенность» представляет собой неоднозначную картину с непонятными аспектами. Мы больше не считаем, что природа и условия жизни или воспитание, – независимые факторы в развитии человека. В некоторых случаях природа доминирует – музыкальные вундеркинды начинают играть фуги Баха на фортепиано в возрасте двух лет. Но для этого музыке нужно обучиться, что относится к воспитанию. На стороне лагеря, который полагает, что вся предрасположенность наследственна, есть только часть правды. Лагерь оппонентов, утверждая, что 10 000 часов практики заменяют задатки гения, – также обладает лишь половиной правды.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу