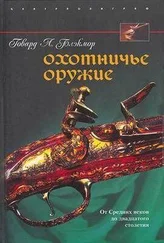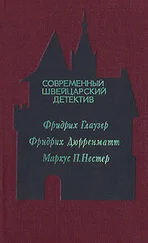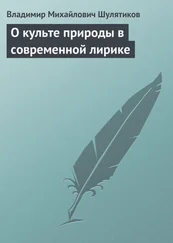Последние времена и новое время
В тематике равным образом можно отметить поворот, отдаляющий Бодлера от предшественников. Унаследованное от романтизма, – а этого немало, – Бодлер подверг столь жестокому эксперименту, что сравнительно с ним романтические тексты кажутся невинной игрой. Начиная с позднего Просвещения, романтики возобновили попытки (предпринятые когда-то в античности и раннем христианстве) эсхатологического толкования истории, определяя собственную эпоху как «последние времена». Однако их настроения расцвечивались изысканными красками, заимствованными из панорамы закатной культуры. Бодлер также расположил себя и свою эпоху в последних временах. Но этот процесс сопровождался иными картинами, иными реакциями. Эсхатологическое сознание, пронизывающее Европу от XVIII века и до наших дней, проявилось в нем с беспощадной и ужасающей проницательностью. В 1862 году возникло его стихотворение «Le coucher du soleil romantique» [21] . Там дается последовательность убывающих степеней света и радости, уходящих в холодную ночь, в болотную трясину, где кишат омерзительные твари. Символика далека от загадочности. Речь идет об окончательном омрачении, о потере доверия души к самой себе в этой кромешной тьме. Бодлер знает, что поэзию, адекватную судьбе времени, можно добыть только в ночи и анормальности, в единственном месте и состоянии, где душа еще может петь, уклоняясь от тривиальности «прогресса» – обличья последних времен. Соответственно, он назвал свои «Fleurs du Mal» «хриплой песней музы последних времен».
Совершенно иначе, нежели романтики, трактует он понятие нового времени, очень сложное понятие. В негативном смысле это мир бездревесного большого города с его уродством, его асфальтом, его искусственным освещением, его каменными берлогами, его грехами, его одиночеством в человеческой сутолоке. Далее он имеет в виду эпоху пара и электричества, техники и прогресса. Бодлер определяет прогресс как «прогрессирующую диссолюцию души, прогрессирующее господство материи», «атрофию духа». Мы читаем о «бесконечной мерзости» плакатов и газет, о «приливе демократии, нивелирующем все и вся». Аналогичные мнения высказывали Стендаль, Токвиль и позднее Флобер. Однако у Бодлера «новое время» имеет и другой аспект. В его негативах и диссонансах присутствует странная фасцинация. Нищенское, распадающееся, злое, ночное, искусственное предлагает поэтически ощутимые возбудители. В них прячется тайна, дающая поэзии нечто новое. Глаза Бодлера видят мистерию в свалках и отбросах большого города. Это фосфоресцирующее мерцание для его лирики. Прибавим к тому, что он приветствует любое действо, направленное против природы, способствующее созданию абсолютной сферы искусственного. Неестественные, кубические каменные массивы, являясь обиталищем зла, тем не менее утверждают неорганический ландшафт чистого духа. Подобное убеждение у более поздних поэтов встречается редко. Но в лирике XX столетия большие города еще мерцают таинственной фосфоресценцией, открытой Бодлером.
У него диссонантные городские пейзажи крайне интенсивны: здесь смешиваются запахи цветов и гудрона, газовый свет с красками вечернего неба, радостные крики с жалобными стонами, и все это контрастирует с мощным размахом ямбов и александринов. Извлеченные из банальности, как наркотики из ядовитых растений, они лирически трансформируются в противоядие от «постыдной пошлости». Отвратительное, уродливое преображается изысканностью тона и обретает ту «гальваническую вибрацию» (frisson galvanique), которой Бодлер восхищался у Эдгара По. Запыленные окна в дождевых промоинах, блеклые серые фронтоны, металлическая прозелень, рассветы, как жирное, грязное пятно, как звериный сон девок, громыханье омнибусов, безгубые лица, старухи, духовая музыка, напоенные желчью газные яблоки, тошнотворные запахи – таковы эскизы его поэтически «гальванизированного» нового времени. Аналогичное можно встретить и у Элиота.
Бодлер часто говорит о красоте. Однако в его лирике она удалена в область техники стиха и языковых вибраций. Лирические объекты более не отвечают традиционным понятиям о красоте. Бодлер использует многозначные, парадоксальные приемы с целью придать красоте агрессивность и «колорит отчужденности». Чтобы защититься от банального, чтобы провоцировать банальный вкус, должна она быть странной. «Чистая и странная» – так звучит одно из его определений красоты. Но непреодолимо желает он безобразного как эквивалента приоткрытым тайнам, разлома, прорыва для взлета в идеальное. «В безобразном чувствует лирик новое волшебство». Искаженное шокирует, провоцирует «неожиданное нападение». Решительней, чем раньше, утверждается анормальность как предпосылка нового дикта и одна из его основ. Раздраженность против банального и привычного ощущается, по мнению Бодлера, и в традиционной красоте. Новая, соединенная с «безобразным», красота обретает свою энергию через сближение с банальным при одновременной деформации к странному и через «сочетание ужасного с шутовским», как сказано в одном письме.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу