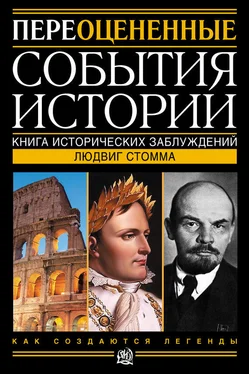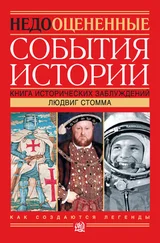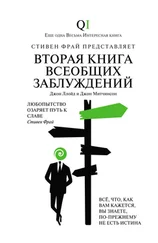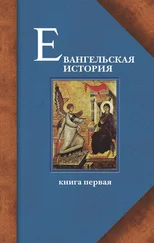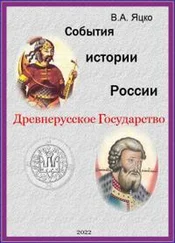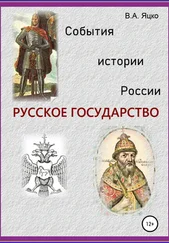Поэтому, ничего удивительного, что авторы словарей и лексиконов (в частности, Зигмунт Рыневич, «Лексикон мировых битв», Варшава, 2004) помещают Марафонскую битву в один ряд с важнейшими сражениями в истории, поэты воспевают ее, политики упоминают в речах, а американские дети, к примеру, считают самым известным событием в истории Европы до Рождества Христова.
Существует и другая причина особой популярности марафонского сражения: оно идейно вдохновляло «Весну народов» (революционные события в Европе 1848–1849 гг. – Прим. ред. ), что отразилось в поэме Корнеля Уейского накануне начала революционных боев. Вот он пишет о греках:
Народ сей малый, словно пчелы в улье,
Отдельно каждый дом свой обиходит,
Но зов нужды их сразу вместе сводит.
Да, край сей мал, но остановит сразу
Пята гиганта ворогов заразу.
Да, мал сей край, словно в стене бойница,
Но схоронить врагов и он сгодится!
А теперь появляются персы:
Нам вашей силы огромной бояться?
И не пытаться нам с нею тягаться?
А если ваша мощь замешана на страхе?
Из праха вышли и ползете в прахе,
А в бой вас гонят палкой воеводы.
И разбежитесь вы, узрев лицо свободы.
Мы здесь имеем два резких противопоставления: свободы и рабства, а также численное превосходство противников. Простим Уейскому его забывчивость: свободная Греция той эпохи основывалась на системе рабовладения, афинская демократия не была уж такой благостной, а персидская деспотия – такой уж бесчеловечной. Да это и не важно, поскольку в той войне вопросы государственного устройства не имели никакого значения. Персидское нападение являлось возмездием за разжигание греками, в особенности афинянами, антиперсидских восстаний в греческих полисах Малой Азии, находившихся под властью персов. Впрочем, непосредственным подстрекателем к вторжению стал Гиппий – грек, родственник Солона Великого, сын Писистрата, стремившийся вернуть себе власть в Афинах, где он правил с 527 по 510 г. до н. э. Строфы Уейского написаны для поляков, пребывавших под властью Российской империи, а если смотреть шире – для Европы, находившейся «в когтях трех черных орлов». Древнегреческие реалии его особо не заботили.
Остается проблема численной диспропорции. О греческих силах под командованием Мильтиада мы имеем точные данные: 10 000 человек (9000 афинян и 1000 платейцев, спартанцы опоздали, поскольку отмечали праздник Карнеи в честь бога Аполлона и появились уже по окончании битвы). А сколько же персов высадилось на марафонском берегу? Здесь цифры разнятся. Оценки историков колеблются от 15 000 аж до 40 000. Авторы компетентного пособия («Guerres et societies – Mondes grecs V–IV siecles», Neuilly, 2000) пишут о «почти троекратном превосходстве персов», то есть о 30 000. Н. Д. Л. Хаммонд («История
Греции», Варшава, 1973) утверждает, что персов было «максимум 25 000». Согласно Зигмунту Кубяку, «персы с презрением взирали на армию вдвое меньшую, нежели их собственная», следовательно, их было 20 000… Как ни крути, а персы имели решительное превосходство, но это не являлось таким уж из ряда вон выходящим обстоятельством, чтобы превратиться в легенду. Во многих битвах Античности, таких, к примеру, как битвы при Гимере (480 до н. э.), Делии (424 до н. э.) или Иссе (333 до н. э.) разница в численности войск была куда большей.
Основную силу персов составляли отряды лучников и конница. У греков же, наоборот, отмечает Хаммонд, «не имелось ни кавалерии, ни лучников, поскольку в этих родах войск у персов было гарантированное превосходство. Следовательно, афинская армия представляла собой просто большое ударное подразделение тяжеловооруженной пехоты». Этим изначально и определялась тактика гоплитов: они стремились приблизиться к противнику как можно быстрее, пока их не перебили издалека вражеские лучники, вступить в непосредственное соприкосновение с противником желательно на возможно меньшем пространстве, затрудняющим маневры конницы. Понимая это, греки оттягивали ожидаемую персами атаку. «Спиливая деревья и наскоро устраивая из них на равнине частоколы, они придвинули свои позиции приблизительно на расстояние полутора километров к линии персидских войск. Однажды ночью, перед самым рассветом, несколько солдат-ионийцев, служивших в персидской армии, подошли к греческому частоколу и сообщили афинянам: “Конницы нет”». Скорее всего лошадей просто отправили пастись на другой берег речушки Ойноя, поближе к простиравшемуся на севере так называемому Большому болоту.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу