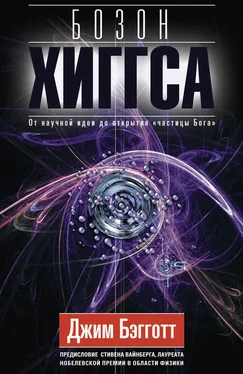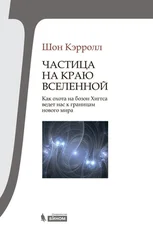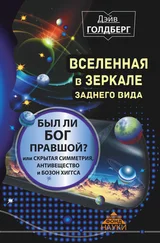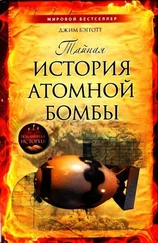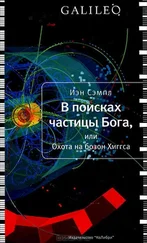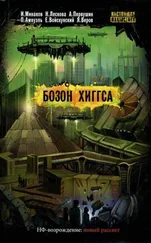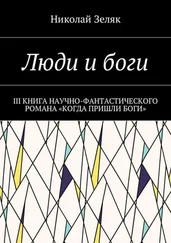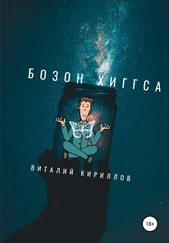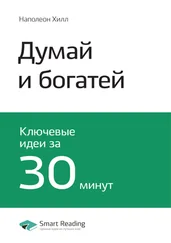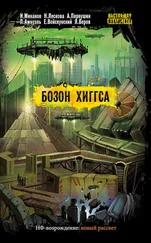Когда электрон сталкивается с протоном, могут иметь место три разных вида взаимодействия. Электрон может относительно безвредно отскочить от протона, обменявшись виртуальным фотоном, при этом скорость и направление электрона изменится, но частицы останутся целыми. Это так называемое упругое рассеяние дает электроны с относительно высокой рассеянной энергией, группирующейся вокруг пика.
Во втором виде взаимодействий при столкновении с электроном может происходить обмен виртуальным фотоном, который посылает протон в то или иное возбужденное энергетическое состояние. Рассеянный электрон в итоге оказывается с меньшим количеством энергии, и сравнение на графике рассеянной энергии с приобретенной показывает серию пиков или резонансов, соответствующих разным возбужденным состояниям протона. Такое рассеяние называется неупругим, так как могут создаваться новые частицы (например, пионы), хотя и электрон, и протон выходят из взаимодействия целыми. По сути, энергия столкновения и обмен виртуальным фотоном переходит в образование новых частиц.
Третий тип взаимодействия называется глубоко неупругим рассеянием, при котором большая часть энергии электрона и виртуального фотона переходит в полное уничтожение протона. В итоге возникает целый фонтан разных адронов, и рассеянный электрон отскакивает уже со значительными потерями энергии.
Исследования глубоко неупругого рассеяния на относительно небольших углах с жидководородной мишенью начались в Стэнфордском центре ускорителей в сентябре 1967 года. Их проводила небольшая группа экспериментаторов с участием физиков МИТ Джерома Фридмана и Генри Кендалла и работающего в лаборатории канадского физика Ричарда Тейлора.
Они сосредоточили внимание на поведении так называемой структурной функции, функции разницы между начальной энергией электрона и энергией рассеянного электрона. Эта разница связана с энергией, потерянной электроном в столкновении, или энергией виртуального фотона, которым обмениваются частицы. Они увидели, что по мере увеличения энергии виртуального фотона структурная функция показывает заметные пики, соответствующие ожидаемым резонансам протона. Однако при дальнейшем увеличении энергии эти пики сменялись широкими плато, которые постепенно снижались, когда уходили достаточно далеко в диапазон глубоко неупругих столкновений.
Любопытно, что форма функции оказалась в большой степени независимой от начальной энергии электрона. Экспериментаторы не могли понять почему.
Зато это понял американский теоретик Джеймс Бьеркен. Бьеркен получил докторскую степень в Стэнфордском университете в 1959 году и незадолго до экспериментов вернулся в Калифорнию после того, как проработал некоторое время в копенгагенском Институте Нильса Бора. Перед самым открытием Стэнфордского центра ускорителей он разработал модель, позволявшую предсказывать результаты электрон-протонных столкновений при помощи довольно эзотерического подхода, основанного на квантовой теории поля.
В этой модели протон можно было представить двумя разными способами. Его можно было считать твердым «шариком» вещества с равномерно распределенными массой и зарядом. Или его можно было считать областью почти пустого пространства, которое содержит невидимые, точечные элементы, почти как атом, который, как было показано в 1911 году, представляет собой пустое пространство, содержащее крошечное положительно заряженное ядро.
Эти два очень разных взгляда на структуру протона должны приводить к очень разным результатам рассеяния. Бьеркен понял, что при достаточной энергии электроны могли бы проникнуть внутрь «составного» протона и столкнуться с его точечными элементами. В диапазоне глубоко неупругих столкновений электроны были бы рассеяны в больших количествах, под большими углами, и структурная функция вела бы себя именно так, как это происходило при экспериментах.
Бьеркен не стал говорить, что эти точечные элементы могут быть кварками. Кварковая модель все еще вызывала насмешки у большинства физиков, и некоторые другие теории пользовались большим уважением. Споры о том, как следует интерпретировать данные, бушевали даже в самой группе физиков МИТ и Стэнфордского центра ускорителей. В связи с этим физики не торопились заявить, что их результаты свидетельствуют о существовании кварков.
Так продолжалось еще десять месяцев.
Ричард Фейнман посетил Стэнфордский центр ускорителей в августе 1968-го. Поработав со слабым ядерным взаимодействием и квантовой гравитацией, он решил снова взяться за физику высоких энергий. Его сестра Джоан жила в доме недалеко от центра, и, навещая ее, он пользовался возможностью «пошнырять» вокруг ускорителя и выяснить, что творится в полях.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу