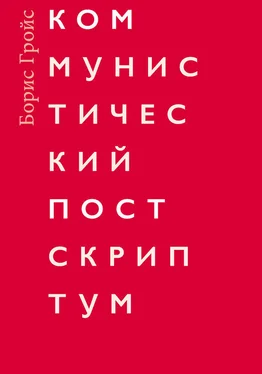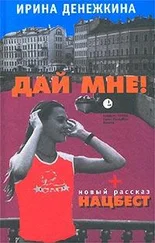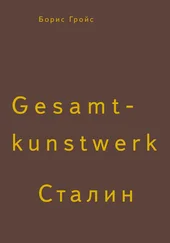Конститутивным признаком философского или революционного субъекта является как раз то, что он апроприирует скрытый и действующий во мраке дьявольский разум и посредством вербализации трансформирует его в разум диалектический. Только подозрение, что существует не только капитал, но и заговор капитала, то есть власть, использующая капитал одновременно как прикрытие и как орудие и торжествующая всякий раз, когда он выигрывает (стало быть, всегда), – только такое подозрение конституирует субъект, цель которого – обнаружить и апроприировать эту власть. Кто-то назовет такое подозрение параноидальным, беспочвенным, недоказуемым, в общем, клеветническим. Однако, как справедливо заметил Александр Кожев в своих комментариях к философии Гегеля, любая революция начинается с клеветы. И столь же справедливо Кожев указывал на то, что ответственность за возникновение такой клеветы лежит не на тех, кто ее формулирует и распространяет, а на власть имущих, окруженных темной, непрозрачной аурой власти, которая и дает основания для подозрения. [1]Революционное подозрение есть эффект паранойи. Но это не «субъективная» паранойя, которую нужно лечить методами психиатрии или психоанализа, а паранойя «объективная», поскольку условием ее возникновения служит предмет, подозрительный тем, что выглядит темным, непрозрачным и ускользающим от когерентных операций разума. Весь мир кажется нам таким предметом, внушающим неизбежное подозрение, что он скрывает в своем нутре демонический разум, власть которого – это власть парадокса. В западном культурном контексте капитал редко ставится под такое подозрение. Однако хорошей иллюстрацией к тому, как это подозрение функционирует, служит терроризм, превратившийся в последнее время в предмет объективной паранойи.
Современные западные политики, одновременно призывающие и к борьбе с терроризмом и к сохранению традиционных гражданских прав, фактически оперируют парадоксом, поскольку эти цели противоречат друг другу. В таких случаях обычно говорят о политике, которая находит компромисс между двумя требованиями – призывом к бдительности и призывом к соблюдению гражданских свобод. Однако слово «компромисс» здесь неуместно. О компромиссе можно было бы говорить, если бы в обществе имелись две социальные группы, одна из которых требовала бы соблюдения свобод, включая свободу для терроризма, в то время как другая стремилась бы к ликвидации всяческих свобод, включая свободу терроризма. Но совершенно очевидно, что в нашем случае таких групп нет, – а если и есть, то обе они маргинальны. Компромисс между ними просто лишен смысла. Тех, кто верит в эти логически корректные альтернативы, обычно принимают за фриков, помешанных на свободе или на бдительности, и поэтому их мнение оставляют без внимания. «Здоровое» большинство граждан, равно как и правящие политики, верят не в эти непротиворечивые альтернативы, а в парадокс – и требуют диалектической политики парадокса. Это требование вытекает из подозрения, согласно которому политика террора носит дьявольский характер и потому требует диалектического, парадоксального ответа. Предполагается, что террористы хотят ликвидировать общественный порядок, обеспечивающий права и свободы граждан. Это значит, что они выиграют при последовательной реализации любой из этих непротиворечивых альтернатив: террор достигает своей цели и в случае, если ему будет предоставлено свободное поле для активности, и в случае ликвидации гражданских свобод путем антитеррористической борьбы.
Вопрос, является ли террористический разум действительно дьявольским, на самом деле нерелевантен. Достаточно сказать, что «мотивы террористов темны», – и тут же возникнет предположение, что за террористическими актами скрывается какой-то дьявольский разум. Важно лишь то, что как только возникает темный предмет объективной паранойи, ответ на него неизбежно будет диалектическим, парадоксальным. Следовательно, подлинно политический дискурс современной эпохи далек от обычного представления о нем. Как правило, ситуация описывается таким образом, будто в контексте рационалистической современности нормальным считается только тот, кто мыслит когерентно и в соответствии с правилами формальной логики. Тот же, кто мыслит парадоксально, подвергается маргинализации и объявляется сумасшедшим, больным или в лучшем случае «проклятым поэтом». Действительность прямо противоположна этому описанию. В наше время нормальным человеком, «центристом» считают как раз того, кто мыслит и живет, постоянно себе противореча. Пресловутая «центристская политика» есть, по сути, политика парадокса, которая лишь с трудом маскирует свой парадоксальный характер иллюзией компромисса. Каждый же, кто пытается оперировать логически корректными, когерентными и убедительными аргументами, слывет маргиналом, если не сумасшедшим, и уж во всяком случае человеком «не от мира сего», не способным к отправлению власти.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу