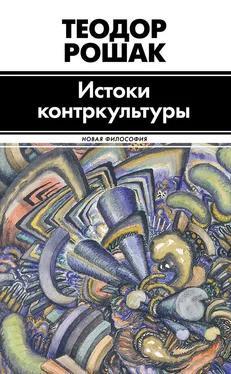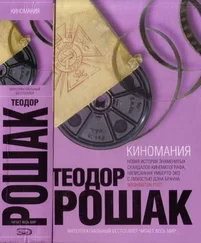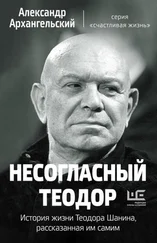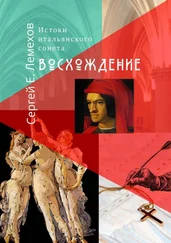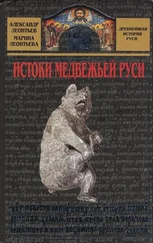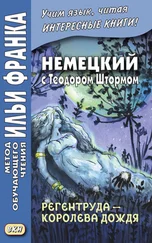Маркузе, бесспорно, прав, называя противоестественную вседозволенность одной из ключевых стратегий современного социального контроля: это давление, которое диссидентская молодежь особенно хорошо улавливает. Что не ясно, так это почему эти давящие формы доминирования продолжают существовать, когда потенциал освобожденного изобилия так несомненно очевиден. Если доминирование родилось единственно из дефицита, тогда оно должно исчезнуть с наступлением изобилия: в наше время привилегированное положение не является необходимым условием наличия средств к существованию или даже высокого уровня жизни. Но доминирование продолжает существовать, и не похоже, чтобы Маркузе предложил вразумительное объяснение утверждению «сознание отстает от научно-технического прогресса или… замедляет его, отрицая его потенциал во имя прошлого» (с. 31). Стало быть, мы ощущаем эффект психосоциальной инерции, которая заставляет нас жить в суровой дисциплине, как при дефиците, хотя уже наступило изобилие.
Но инерция сознания – довольно слабое объяснение нашему поведению, особенно в рамках учения Фрейда, где все увязано с инстинктами. Более того, представляется очевидным, что элиты мира полностью отдают себе отчет в возможностях изобилия, раз они создали на редкость изобретательные стратегии интегрирования комфорта, непринужденности, вседозволенности и даже бунта в логику доминирования. Таков лейтмотив анализа одномерного человека у Маркузе. Но почему элита упорно борется против готового, доступного освобождения? Иррациональная дурная привычка? Тогда это нужно объяснять, как Фрейд объяснял бы невротический симптом: ссылкой на какой-нибудь скрытый конфликт инстинктов. Но у Маркузе, видимо, не осталось из чего сотворить такой конфликт, и он связывает репрессию с реальным экономическим фактором (дефицитом), уже утратившим актуальность. На что же тогда опирается доминирование? В отсутствие ответа в рамках первых принципов Фрейда нам придется прибегнуть к дофрейдистскому черно-белому морализированию и сказать, что технократы просто «плохие парни».
Прежде чем перейти к тому, что говорит об этих проблемах Браун, нужно подчеркнуть два основных аспекта концепции нерепрессивности Маркузе. Прежде всего Маркузе не предлагает перспективу тотального освобождения. Его цель – уничтожить только добавочную репрессию. Основная репрессия остается в силе, потому что, как напоминает Маркузе, «человеческая свобода – не только частное дело». Он надеется, что «самоотречения и отсрочки, которых требует единая воля, не должны быть неясными и негуманными, а их причина авторитарной». Он даже делает странное предположение, что «естественное самоограничение» увеличивает «истинное удовольствие» с помощью «отсрочек, окольных путей и запрещений». Это в сочетании с идеей основной репрессии возводит неприятные препятствия вокруг версии освобождения Маркузе. Он предлагает нам свободу… в разумных пределах. Получается, Фрейд в прочтении Маркузе дает нам не больше понятия о гражданской свободе, чем Джон Стюарт Милль [116]?
Во-вторых, Маркузе не предлагает никакой реальной перспективы восстановления инстинкта смерти. Его подход к этой проблеме отличается большой двусмысленностью и смахивает на домашнюю философию какого-нибудь обывателя. «Высшую необходимость» смерти нельзя отменить, но она может стать «необходимостью, против которой нерепрессированная энергия человечества будет протестовать, с которой оно вступит в величайшую схватку». Какова же цель этой схватки с непобедимым врагом? Достижение максимально долгой и счастливой жизни для всех, безболезненной смерти, успокоение умирающих надеждой, что в новом обществе их любимые люди и духовные ценности будут в безопасности. В итоге смерть для Маркузе – цель героического «Великого Отказа, отказа Орфея-освободителя».
Протестовать, отказываться, бороться против смерти… Нерепрессивность у Маркузе обещает возможность продолжать тщетное противостояние с ничтожным выигрышем вроде долголетия и утешения умирающим в перспективе. Конечно, это идеалы не пустые, но очень традиционные, вряд ли Маркузе стоило их повторять.
Вспомним название книги Брауна: «Жизнь против смерти». Разве это не то самое противостояние, которое Маркузе отстаивает до последнего и которое служит диагнозом репрессии от Брауна? По мнению Брауна, стравливая жизнь и смерть, мы сохраняем онтологическую дилемму человека. Неудивительно, что Маркузе вынужден смягчать свой идеал освобождения мудреным отличием «прибавочной» репрессии от «основной». Можно подумать, он, как ни старается, не может представить жизнь иначе, как в трагическом неудовлетворении. Свобода человека должна прислушиваться к сдерживающим доводам его товарищей и смириться с меланхолической неизбежностью смерти, – это лучшее, что мы можем сделать. Маркузе ссылается на Орфея, покинутого певца, однако в его тоне явственно звучит стоическое самоотречение [117].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу