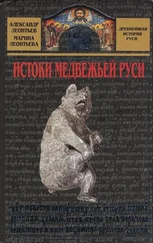Браун, напротив, пришел к социальной критике законченным индивидуалистом. Его исследование «психоаналитического значения истории» в «Жизни против смерти» стало поздним и весьма эксцентричным достижением в его карьере. Раннее классическое исследование Брауна – аккуратное, скромное, традиционное – почти не содержит наступательного размаха ницшеанства, который теперь ассоциируется с Брауном [96]. Свои социальные размышления Браун начинает с Фрейда и переходит со своим Фрейдом прямо к делу. Он не привносит с собой в психоанализ прежней привязанности к левым идеологиям. В своей работе Браун мало ссылается на Маркса, хотя достаточно очевидно, как решительно он ставит под сомнение учение марксизма. Помимо этого, он известен уклонением от политических пристрастий и утомительных фракционных разногласий. Если мысль Брауна смелее и экстравагантнее, чем у Маркузе, это потому, что он работает со свободой ученого, который забросил свою специальность и окунулся в социальную критику безо всяких ограничений. Результатом стала бурная оригинальность дилетанта, который пускается в умозрительные приключения, не заботясь о традиционной мудрости профессионалов или идеологически подкованных коллег. Для ортодоксального фрейдиста свобода интерпретаций у Брауна скандально широка. Для радикального активиста его политика упорно аполитична. И все же моя позиция здесь такова, что в сфере социальной критики контркультура начинается там, где Маркузе с разгона остановился и где Браун без долгих предисловий бросился в тему очертя голову.
Прежде чем изучить проблемы, разделившие Маркузе и Брауна, давайте рассмотрим, что их объединяет. Это важно, потому что и Маркузе, и Браун достойны всяческих похвал за значительные и очень схожие вклады в современную социальную мысль. Лучший способ показать новизну их работ – сравнить их с традиционным марксизмом.
Интересно, что претензии к марксизму, которые предъявляют Маркузе и Браун, исходят из общей почвы с Марксом, вернее, «с теневыми молодыми «протомарксистами», которые потянулись к философии под дурманящим влиянием немецкого идеализма. Рукописям, в которых Маркс в общих чертах обрисовал и затем отверг свои юношеские размышления, было суждено найти дорогу в печать лишь спустя примерно пятьдесят лет после его смерти, но с этого момента карьера этих сочинений стала феерической. Эти работы, фактически бедные содержанием, стали парником марксистского гуманизма, то есть марксизма, который, как считается, все еще сохраняет революционную актуальность в условиях капиталистического и коллективистско-бюрократического изобилия [97].
Маркузе, который охотно отождествляет себя с марксистским учением, видит ценность этих трудов в акценте на «тенденциях, которые были разжижены в позднейших интерпретациях социальной критики Маркса: элементы коммунистического индивидуализма, отречение от любого фетишизма, касающегося обобществления средств производства или роста производственных сил, и подчинение этих факторов идее свободной реализации личности» [98]. Бесспорно, ученические труды молодого Маркса не лишены очарования, несмотря на незрелость стиля и отталкивающую гегелевскую неясность. Эссе не только пронизаны теплой личной заботой о человеке; на том этапе жизни Маркс не стеснялся с большим воображением распространяться о поэзии и музыке, об игре и любви, о красоте и жизни чувств. Как мы увидим, в этих сочинениях есть параграфы, где Маркс разворачивает аналитические картины великих психологических перспектив. И все же в новомарксистском буквоедстве есть нечто жалкое и одновременно комичное – сейчас они настаивают, что эти забракованные, рудиментарные упражнения – «истинный» Маркс и что, если как следует «причесать» работы, мы найдем в них (видимо, в них одних из всей литературы того периода) всю фундаментальную мудрость современной гуманистической мысли [99].
Маркузе, защищая общую преемственность работ Маркса, протестовал против попытки ограничить гуманизм Маркса его ранними работами. «Подлинная сущность марксистского гуманизма, – говорил он, – появляется и в «Капитале», и в поздних работах». Но Маркузе идет дальше – он определяет этот «гуманизм» как «построение мира без доминирования или эксплуатации человека человеком» [100]. Действительно, протест против эксплуатации проявляется у Маркса от начала до конца вместе с прочей преемственностью. Но протест появлялся у всех социалистических и анархических теоретиков за последние полтора века. Если в ранних рукописях и есть отличительная черта, то это непривычная психологическая и поэтическая чувствительность. А если расценивать эти рукописи как открытие, как предлагают марксисты-гуманисты, тогда решающим в нашей оценке места упомянутых рукописей в марксовской антологии должно быть соображение, что сам Маркс предал эти труды забвению и никогда не возвращался к духу свободного размышления и эстетической глубине, за исключением отклонений от основной линии, которые заметит только умнейший ученый-марксист. То, что перестало оказывать влияние на Маркса, еще меньше влияло на большинство его исторических последователей. За исключением роли, какую они сейчас играют – ценная, кстати, роль – в орошении пересохшего воображения сухарей-марксистов, «Экономические и философские манускрипты» являются, в историческом контексте, интеллектуальной неудачей, в которой винить некого, кроме самого Маркса.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу