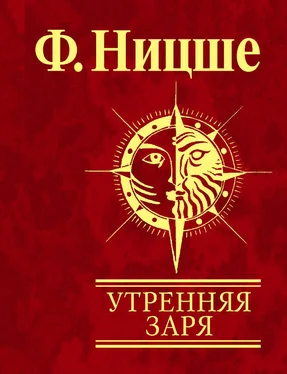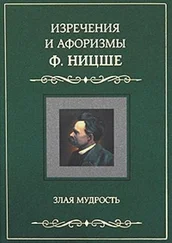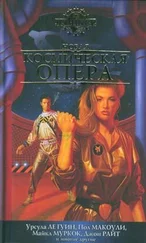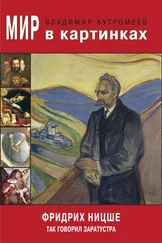Прежнее немецкое образование. Когда немцами стали интересоваться другие народы Европы, то это произошло единственно благодаря образованию, которого теперь у немцев нет уже и которое они отбросили прочь со слепым ожесточением, как будто оно было болезнью, но ничем лучшим они не могли его заменить, как политическим и национальным ослеплением. Правда, они добились этим, что сделались еще интереснее для других народов, чем прежде, когда вызывали к себе интерес своим образованием, и могут теперь быть довольны! Но нельзя отрицать, что то немецкое образование одурачило европейцев и что оно не заслуживало такого интереса, такого подражания и такого усердного поклонения. Оглянитесь теперь еще раз на Шиллера, Вильгельма фон Гумбольдта, Гегеля, Шеллинга; почитайте их письма и войдите в великий круг их поклонников: общая черта всех их, которая бросится вам в глаза, и невыносима, и жалка! Во-первых, желание показаться морально настроенными – и притом добиться этого какой бы то ни было ценой; затем – погоня за блестящими, лишенными плоти отвлеченностями. Этот нежный, благонравный, убранный серебром идеализм, который хочет притвориться благородным в манерах и в голосе, – вещь насколько смелая, настолько и простодушная, одушевляемая исходящим из глубины сердца отвращением к «холодной» и «сухой» действительности, к анатомии, к полным страстям, ко всякого рода философской воздержанности и скептицизму, но зато и к познанию природы. Свидетелем этого направления немецкого образования был Гете, но он относился к нему своим, особенным образом: стоя рядом с ним, тихо сопротивляясь, молча, все крепче и крепче утверждаясь на своей лучшей дороге. Позднее его застал еще и Шопенгауэр, – ему снова сделался видим действительный мир и чертовщина мира, и он говорил об этом насколько грубо, настолько и воодушевленно, ибо эта чертовщина имеет свою красоту! Так что же, в сущности, так прельщало иностранцев? Тот слабый блеск, тот загадочный свет Млечного Пути, который виден был вокруг этого образования; при этом иностранец говорил: «Это от нас очень, очень далеко, туда едва достигает наше зрение и слух, мы мало знаем это, мало можем насладиться им, не способны оценить; но тем не менее это – звезды! Не открыли ли немцы потихоньку уголок неба и не поселились ли там? Надобно постараться поближе подойти к немцам». И подошли к ним поближе; между тем как те же самые немцы почти сейчас же начали хлопотать о том, чтобы стряхнуть с себя блеск Млечного Пути: они слишком хорошо знали, что они были не на небе, а в облаке!
Лучшие люди! Мне говорят: наше искусство обращается к жадным, ненасытным, необузданным, разбитым людям настоящего и показывает им благословенные возвышенные картины чистой жизни рядом с картиной их пустыни. Они забываются и могут отдохнуть за этим созерцанием, и, может быть, из этого забвения они вынесут проклятие своей жизни и желание перемены. Бедные художники, если им приходится иметь дело с такой публикой! Иметь такие полужреческие, полу-докторские цели! Насколько счастлив был Корнель – «наш великий Корнель», – как восклицает madame de Sevigne с обычным удивлением женщины перед великим человеком, – насколько выше была его аудитория, если он мог быть ей полезным, рисуя рыцарские добродетели, строгость обязанностей, великодушие жертвы, геройское самообладание! Как иначе любили бытие и сам Корнель, и его слушатели не из слепой разнузданной «воли», которую проклинают, потому что не могут убить ее, но как такое место, где совместимы величие и гуманность, и где даже самое строгое принуждение форм, подчинение правительственной или умственной власти, не может убить ни гордости, ни рыцарского благородства, ни красоты, ни духа индивидуума, и где, наоборот, развивается прирожденное самодержавие, и величие, и наследственная власть воли и страсти.
Значение хороших противников. Говорят, что французы были когда-то самым христианским народом на земле, но не в том смысле, что народные массы были у них более верующими, чем где-либо, а в том, что у них были люди, которые осуществили в себе самые трудные христианские идеалы.
Вот Паскаль – соединение страсти, ума и честности. Вот Фенелоп, полное и чарующее выражение церковной культуры во всех ее силах: золотая середина, представляющая нечто несказанно трудное и невероятное. Вот madame de Guyon среди подобных ей французских квиетистов, и все, что старалось разгадать горячее красноречие апостола Павла о состоянии самого возвышенного, самого любящего, самого смиренного и самого восторженного христианина, было там действительностью, имея при этом благородную, женственную, изящную старофранцузскую наивность в словах и манерах. Вот основатель траппистских монастырей, один из последних, серьезно относившихся к аскетическому идеалу, – он не был исключением среди французов, напротив, был настоящим французом, его суровое творение могло ужиться и появиться только среди французов, и последовало за ними в Эльзас и в Алжир. Вспомним и гугенотов: более красивого союза воинственного и трудового духа, утонченных нравов и христианской строгости до сих пор не было. И в Порт-Рояле в последний раз расцвела христианская ученость, и этот цвет великие люди во Франции понимают лучше, чем где-либо в другом месте. Не желая быть поверхностным, великий француз, однако, всегда бывает поверхностным, – между тем как глубина великого немца держится замкнутой, как эликсир, который старается защититься от света и легкомысленных рук своей жесткой чудесной оболочкой. Теперь можно разгадать, почему этот период совершенных типов христианства должен был производить также и противоположные типы нехристианского свободного духа! Французскому свободному духу приходилось бороться всегда с великими людьми, а не только с уродами, с которыми боролся свободный дух других народов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу