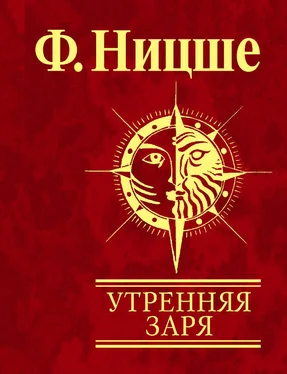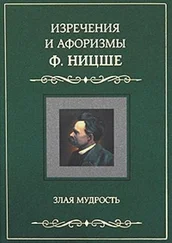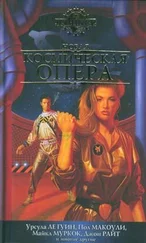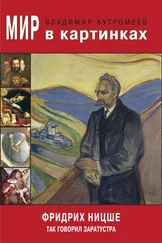Безусловные подчинения. Если подумаешь о немецких философах, которых больше всего читают; о немецких музыкантах, которых больше всего слушают; о немецких государственных людях, самых уважаемых, то придется согласиться, что немцам, этому народу безусловных чувств, теперь становится поистине горько – и именно от их собственных великих людей. Там можно трижды видеть великолепное зрелище: каждый раз реку в ее собственном, ею же самой прорытом русле, которая движется так величественно, что часто может показаться, как будто она хочет подняться в гору. И, однако, как бы ни было велико уважение к этому величественному потоку, кто не высказался бы охотно против Шопенгауэра? Кто может быть теперь одного мнения с Р. Вагнером? И наконец, многие ли от всего сердца соглашаются с Бисмарком, если только он сам согласен с самим собой или только показывал вид, что это так? Действительно человек без глубоких основных положений, но с глубокими страстями, подвижный дух на службе сильных глубоких страстей, – потому-то и без основных глубоких положений. В государственном человеке это не должно казаться странным; наоборот, это должно быть вполне правильным и естественным. Но, к сожалению, до сих пор это так глубоко противоречило немецкому характеру! И на что годны вообще эти три образца, которые не хотят жить в мире даже между собою! Шопенгауэр – противник музыки Вагнера; Вагнер – противник политики Бисмарка; Бисмарк – противник всякого вагнерства и шопенгауэрства! Что остается делать? Куда обратиться со своей жаждой «стадной преданности»? Может быть, можно выбрать себе из музыки композитора несколько сот тактов хорошей музыки, которые могут тронуть чье-нибудь сердце и к которым лежит чья-нибудь душа, потому что они имеют сердце; может быть, можно будет уйти куда-нибудь и скрыться с этой покражей, а все остальное – забыть? Может быть, то же самое можно проделать с произведениями философа и государственного человека: выбрать, отдаться этому всем сердцем, а все остальное – забыть? Да, если бы только забвение не было так трудно!
Был один очень гордый человек, который хотел слышать о себе все и хорошее, и дурное, но когда ему понадобилось забвение, он не мог дать его себе самому, а должен был трижды заклясть духов; они явились, выслушали его требование и, наконец, сказали ему: «Только это одно не в нашей власти!» Не должны ли немцы воспользоваться опытом Манфреда? Зачем же еще заклинать духов! это бесполезно: не забывают, когда хотят забыть! И как велик был бы этот «остаток» от этих трех гигантов нашего времени, который пришлось бы забывать, чтобы можно было сделаться их поклонниками! Экономнее, однако, воспользоваться удобным случаем и поискать чего-нибудь нового: именно сделаться более честными к самим себе и из народа легковерного поклонения и слепой озлобленной вражды превратиться в народ осторожной критики и благосклонной борьбы. Но прежде всего надобно понять, что безусловное преклонение перед кем-нибудь есть нечто смешное, что учиться для немца не позорно и что есть одна глубокого смысла, стоящая запоминания пословица: се qui importe, се пе sont point les personnes mais les choses (важны не лица, а дела). Этот афоризм, как и тот, кому он принадлежит, велик, силен, прост и немногословен, – вполне как Карно, солдат и республиканец. Но, может быть, немцам нельзя так отзываться о французе, и вдобавок еще о республиканце? Может быть, и нельзя; может быть, даже немцы не желают и вспоминать о французах! Но великий Нибур говорил своим современникам, что никто не произвел на него такого сильного впечатления и истинного величия , как Карно.
Образец. Что нравится мне в Фукидиде? За что я чту его выше Платона? Он глубоко и простодушно радуется каждому типичному человеку и каждому типичному случаю; он находит, что в каждом типе есть доля разумного , и он старается открыть его. У него больше практической правдивости, чем у Платона; он не унижает человека, не взваливает на него бремя недостатков и пороков, если он не нравится ему или причинил ему какое-нибудь зло. Наоборот, видя только типы, он находит во всех лицах нечто великое: что было бы делать потомству, которому он посвящает свой труд, с тем, что не типично! Таким образом в нем, человеке-мысли-теле, достигла последнего великолепного расцвета та культура непосредственного познания мира, которая в Софокле имела своего поэта, в Перикле – своего государственного человека, в Гиппократе – своего врача, в Демокрите – своего естествоиспытателя. Это та культура, которая заслуживает быть окрещенной именами своих учителей-софистов и которая, к сожалению, с момента этого крещения становится для нас бледной и непонятной: мы теперь подозреваем, что эта культура была, вероятно, очень безнравственной, если против нее боролся Платон и все сократовские школы! Правда здесь так запутана и загромождена, что отпадает всякая охота откапывать ее: так иди же, старая ошибка (error veritate simplicior), своей старой дорогой!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу