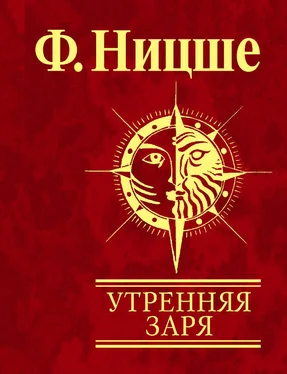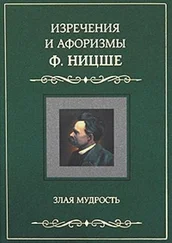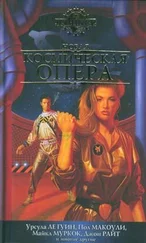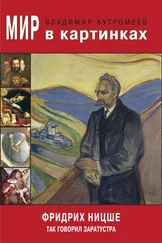Стремление к отличию. Стремление отличиться имеет постоянно ввиду ближнего и хочет знать, что у него от этого на душе; но то чувство , которого требует для своего удовлетворения эта страсть, далеко от добродушия, сострадания, доброты. Хотят знать или угадать, как человек страдает внешне или внутренне от нас, как теряет он силу над собой и отдается впечатлению, которое производит на него наша рука или только наш взгляд; и даже если стремящийся производить (и хочет производить) приятное, возвышающее, радующее впечатление, – он все-таки наслаждается своим успехом не потому, что при этом радовал, возвышал своего ближнего, но потому, что он производил впечатление на чужую душу, менял ее форму и распоряжался ею по своему желанию. Стремление к отличию есть стремление к победе над ближним, будь она только очень посредственная, или только чувствуемая, или только воображаемая. Длинен ряд ступеней этой втайне желаемой победы, и подробное описание их составило бы целую историю культуры от первого карикатурного варварства вплоть до карикатуры утонченного и болезненного идеализма. Стремление к отличию приносит с собою для ближнего (назову только несколько ступеней этой длинной лестницы) страдания, потом удары, потом страх, потом болезненное изумление, потом зависть, потом удивление, потом нравственный подъем, потом радость, потом веселость, потом смех, потом насмешку, потом удары, потом пытку… Здесь в конце лестницы стоит аскет.
В действительности счастья, мыслимого как самое живое чувство власти, может быть нигде на земле не было больше, как в душах суеверных аскетов. Об этом свидетельствуют брамины в истории царя Вишвамитры, который из тысячелетних покаяний почерпнул такую силу, что предпринял создать новое небо. Я думаю, что во всем этом роде душевных переживаний мы теперь – неопытные новички, могущие только ощупью подойти к загадке; четыре тысячи лет тому назад об этих утонченных самонаслаждениях знали больше.
О познании страдающего. Состояние больных людей, которых долго и страшно мучили их идеи, и ум которых несмотря на это не омрачен, – не лишено цены для познания, не говоря уже об интеллектуальных благодеяниях, каждое из которых приносит с собой глубокое уединение, минутную и дозволенную свободу от всех обязанностей и привычек. Тяжело страдающий смотрит на не касающийся его внешний мир со страшной холодностью: все те маленькие обманчивые чары, которыми обыкновенно окутаны бывают вещи, когда смотрит на них глаз здорового человека, исчезают перед больным. Если до сих пор он жил в каком-нибудь опасном бреду – боль отрезвит его, выведет его из этого состояния; она может быть для него единственным спасительным средством. Страшное напряжение интеллекта, желающего оказать сопротивление боли, производит то, что человек видит все в новом свете; и то невыразимое очарование и возбуждение, которые испытываешь при взгляде на вещи в новом освещении, часто обладают такой значительной силой, что оказывают сопротивление всем соблазнам к самоубийству: страдающий начинает чувствовать сильное желание жизни. С презрением вспоминает он об уютном теплом мире, в котором живет здоровый человек, мало думающий, мало дающий себе здравый отчет о том, что совершается вокруг него; с презрением вспоминает он о самых благородных, самых любимых им иллюзиях, в которые прежде он играл сам с собою. Он наслаждается теперь тем, что вызывает это презрение как бы из глубины ада и доставляет душе самое горькое страдание: это служит ему противовесом физической боли, – он чувствует, что ему теперь необходим именно этот противовес!
В этом ужасающем ясновидении он взывает: «будь же своим собственным обвинителем и палачом! прими же свое страдание, как кару, наложенную на тебя тобой самим! размышляй о самом себе как судья и, более того, поступай с собой с тираническим произволом! Стань выше своей жизни и выше своего страдания! смотри вниз на почву и на беспочвенность!» Наша гордость возмущается, как никогда, против такого тирана, как боль, и против всех тех внушений, какие она делает нам, стараясь заставить нас высказаться против жизни. Против этого-то тирана наша гордость и старается защитить жизнь. В этом состоянии с ожесточением защищаются против всякого пессимизма, боясь, как бы он не явился следствием нашего состояния и, одолев нас, не подавил бы нас окончательно. Никогда побуждение быть справедливым в суждениях не было больше, чем теперь, так как теперь оно дает нам триумф над нами и над самым опасным из всех состояний, могущим извинить всякую несправедливость суждения. Но мы не хотим оправдываться, именно теперь мы хотим показать, что мы можем быть «без вины». Мы находимся в настоящем припадке гордости. И вот является первый рассвет выздоровления, – и почти первым следствием этого является то, что мы защищаемся против господства нашей гордости: мы называем себя глупыми и суетными, как будто бы мы пережили что-нибудь такое, что было необыкновенным, странным! Вместо благодарности мы унижаем всемогущую гордость, которая помогла нам перенести боль, и настойчиво ищем противоядия гордости: мы хотим ослабить себя, обезличиться после того, как боль дала нам силу и личность. «Долой, долой эту гордость! – кричим мы, – она была болезнью, она была припадком!» Мы опять смотрим на человека и природу более жаждущими взорами: грустно улыбаясь, мы припоминаем, что мы знаем теперь о них нечто новое и другое, чем прежде; что покрывало спало – но нам так приятно, что мы снова видим тусклый свет жизни, что мы выходим из страшного, трезвого ясновидения, в котором мы во время страданий смотрели на вещи и дальше сквозь вещи. Мы не сердимся на то, что снова начинают играть чары здоровья, – мы смотрим на это, как бы испытывая какое-то превращение; мы – выздоравливающие, но все еще утомленные. В этом состоянии нельзя слушать музыки без слез.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу