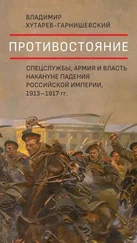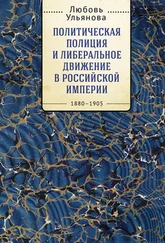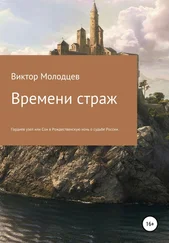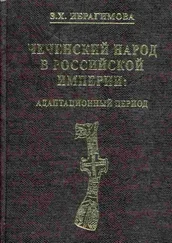РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346. Л. 271 – 276 – Доклад Волынского губернского правления Сенату от 27 февраля 1817 г.; Л. 290 – 293 – Доклад Подольского губернского правления; Л. 258 – Доклады губернаторов этих двух губерний.
Ibidem. Л. 247 – 250.
РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. Д. 648а. Л. 35 – 50 – Доклад подольского губернатора С. Павловского перед Сенатом от 12 мая 1817 г. Он находится среди других отчетов из Гродно, Витебска и т.п., поскольку указ касался всех «прежних польских губерний».
Ibidem. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346. Л. 267 – 270 – Объяснение подольской полиции от 7 августа 1817 г.; Л. 257 и ПСЗ. Т. 34 № 27014 – Печатный текст указа от 23 августа 1817 г. «О предписании гражданским губернаторам и губернским правлениям о немедленном окончании разбора чиншевой шляхты».
Ibidem. Л. 311 – 318 – Доклад Волынского губернского правления в Сенат, 27 ноября 1817 г. По сравнению с отчетом за 1800 г. здесь имеются некоторые отличия. В 1800 г. называлось 2455 наследственных землевладельцев и 2225 наследственных пользователей, в 1817 г. эти категории были разделены. Это дало 2045 полноправных землевладельцев и 421 получивших землю в пожизненное владение. Наследственные пользователи также были разделены: 820 «нормальных» (?) и 684 «традиционных» (?), 127 на казенных землях и 155 бывших военных. Все это производит впечатление окончательной путаницы в делах.
ЦДІАУК. Ф. 481. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 3. Цит. по: Лисенко С., Чернецький Є. Правобережна шляхта. С. 34.
Т. Корзон, цитируя указ 1818 г., заявлял, не приводя каких-либо тому доказательств, об исключении из шляхетского сословия 60 тыс. в 1810 – 1830 гг. (См.: Korzon T. Wewnętrzne dzieje Polski. Т. 1. S. 130 – 135). Подобным образом поступил и А. Зайончковский (См.: Zaj ą czkowski A. Szlachta polska. Kultura i struktura. Warszawa, 1993. S. 103 – 104). В.И. Неупокоев приводит значительные цифры, но они являются результатом работы Комитета Западных губерний, т.е. эти данные касаются уже периода после 1831 г. (См.: Неупокоев В.И. Преобразование беспоместной шляхты. С. 6). Подобный повтор содержится и в работе: Sikorska-Kulesza J. Deklasacja drobnej szlachty. S. 16 – 17.
О переходе на русский язык в ведении дел упоминает Имеретинский (См.: Имеретинский Н.К. Дворянство Волынской губернии… Август 1893. С. 360). С. Лысенко и Е. Чернецкий разделяют нашу осторожность в этом вопросе (См.: Лисенко С., Чернецький Є. Правобережна шляхта. С. 34).
См.: Rychlikowa І. Carat wobec polskiej szlachty. S. 79 – 83, и два крайне ценных комментария в сносках 102 и 103 с подробной библиографией по теме однодворцев и военных поселений Аракчеева.
РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346. Т. 1. Л. 326.
Ibidem. Л. 345 – 348 – Доклад Киевского губернского правления Сенату от 14 марта 1820 г.
Ibidem. Л. 349 – 357 – Выговор Сената киевской полиции от 9 сентября 1820 г.
ПСЗ. 2-я серия. Т. 2 (1827). № 1674.
РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346. Т. 1. Л. 359 – Киевская полиция министру юстиции 25 мая 1821; Л. 358 – Министр юстиции в Сенат 20 июня в 1821 г.
Ibidem. Л. 360 – 363 – Обращение Сената к киевской полиции от 21 июля 1821 г.; Л. 364 – 365 – Ответ от 13 августа; Л. 366 – 368 – Запись в журнале заседаний Сената от 21 декабря 1821 г.
Ibidem. Л. 369 – 377.
Ibidem. Л. 378 – 380.
Ibidem. Л. 381 – 389, и указ от 23 мая 1823 г.; Державний архів Київської області (ДАКО). Ф. 1. Оп. 295. Спр. 7570. Арк. 3. Цит. по: Лисенко С., Чернецький Ф. Правобережна шляхта. С. 34.
РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346. Т. 1. Л. 390 – 403 – Доклад киевской полиции с приведением данных от 18 сентября 1823 г.; Л. 410 – Письмо Киевской казенной палаты в Сенат от 27 октября 1823 г.
Ср. выводы в статье: Rychlikowa І. Carat wobec polskiej szlachty. S. 83. Генерал-губернатор Н.Н. Хованский считал отсутствие уверенности в данных прекрасным основанием для высылки всей белорусской шляхты в военные поселения Аракчеева. В этом состоит смысл его доклада от 22 февраля 1824 г., который был представлен на общем собрании Сената 27 февраля того же года. Такое решительное предложение показалось настолько интересным, что Сенат не раз возвращался к нему – вплоть до 1828 г. См.: РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346. Т. 1. Л. 411.
ПСЗ. Серия I. Т. 40. № 30258. Естественно встает вопрос о том, насколько данное решение было претворено в жизнь. Шляхетская честь была задета настолько, что протестная волна могла парализовать его приведение в исполнение, о чем пишет Сикорская-Кулеша. (См.: Sikorska-Kulesza J. Deklasacja drobnej szlachty. S. 23). Она не объясняет, в чем именно проявлялись протесты. Она считает, что речь шла о намерении принудить шляхтичей к физическому выполнению работ. Между тем чиншевая шляхта была лишь обложена налогом. Согласно докладам губернаторов на протяжении трех лет, с 1827 по 1829 г., беспоместная шляхта платила 2 руб. 20 коп. ассигнациями с души за земские повинности и 2 руб. 28 коп. ассигнациями с души на содержание дворянского собрания (от сохранения фискального братства никто не отказывался!) и уездных судов. В 1830 г. эти выплаты были сокращены до 1 руб. 60 коп. и 1 руб. 15 коп. ассигнациями соответственно. На Волыни земские повинности начали взимать в 1829 г. в размере 4 руб. 50 коп. ассигнациями с околичной шляхты и 2 руб. 98 коп. (тоже ассигнациями, т.е. сравнительно немного) с чиншевой шляхты. На Подолии до 1830 г. такие налоги вовсе не платили. См.: РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. Д. 648а. Л. 377 – 380, 428 – 436, 440 – 454.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
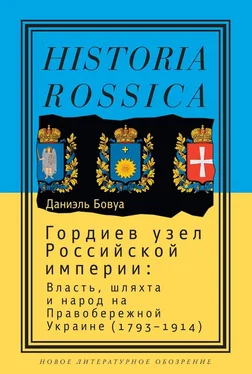
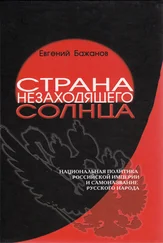
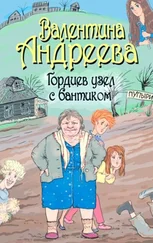
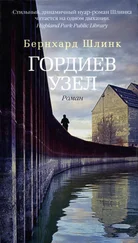
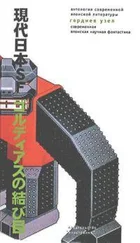

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)