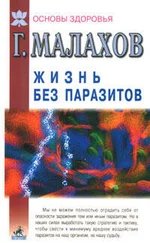— Почему не будете?
— Не хочу…
— Тогда, Гусаченко, ставлю вам единицу!
Такого поворота шутки я не ожидал. Заполучить единицу напротив своей фамилии за просто так, нет, это слишком!
— Почему мне кол?! — заорал я, оторвавшись от «Таинственного острова», — Он не Гусаченко, а Казаков!
— Ах, вот как! В таком случае за то, что вы назвались Казаковым, вам тоже единица, — рассерженно ответила учительница. И это была её третья, последняя ошибка, на весь учебный год определившая неуправляемость классом. Неспособность донести знания до учащихся, не имеющих представления о порядочности, чести и совести. И началось!
Мы затопали ногами, задвигали партами, завизжали, а учительница принялась что–то объяснять, тыкать в карту указкой и часто оборачиваясь. Всё! Больше её никто не слушал. И на «посиделках» по экономической географии разве что только не стояли… на ушах!
Больше всех за передней партой разорялся Вовка Дергунов. Громко разговаривал, мешал мне «странствовать по необитаемому острову» вместе с героями Жюля Верна. Я достал из кармана резинку с петельками, надел на пальцы, вложил в неё туго скатанную из бумажки пульку, хорошо растянул, прицеливаясь в стриженый Вовкин затылок, и стрельнул. Пулька просвистела мимо. Учительница в это мгновение обернулась, хотела что–то сказать, и бумажная пулька стеганула её в открытый рот. Нервы «географички» сдали, самообладание покинуло. Она зарыдала и бегом к директору школы. Меня тоже туда. Учительница плачет, я плачу. Доказываю, что нечаянно. Чуть не исключили из школы.
Последним из «побитых» был «литератор». Лысый, сердобольный человечек с академическим знаком на лацкане затасканного, ещё студенческого пиджака. Был он бесконечно добр, обожал поэта Некрасова и сам был похож на его литературного героя Гришу Добросклонова. Всё пытался привить нам любовь к поэзии. Ходил в стоптанных валенках, с шарфом, обмотанным вокруг тонкой шеи. Умница, знаток классики, наизусть читавший «Евгения Онегина». Экспромтом сочинял стихи, любил рифмовать слова. Говорит, например:
— На вопрос ответит Рысякова Алла…
Та молчит, словно воды в рот набрала. Ни бэ, ни мэ, ни кукареку. И литератор выдает «перл»:
Рысякова Алла
Совсем мал–ло!
И вот этот самый «пиит» в валенках до колен и в шарфе был последней каплей, переполнившей чашу директорского терпения.
Я прибежал с физкультуры, ткнул лыжной палкой в пол, сбивая снег. Наконечник воткнулся. Острый штырь выдернулся из палки, остался торчать в полу. Я подёргал его туда–сюда. Не поддается. «Ну и чёрт с ним, пусть торчит, потом выдерну», — решил я, потому что звонок прозвенел, и все уже сели за парты. Вошёл «литератор» и с ходу наступил на штырь. Взвыл, высвободил из валенка босую ногу, подхватил её и заплясал на другой. Валенок, как прибитый к полу, стоял на штыре. На крик прибежал директор, однорукий Николай Иванович Смыков. Бесполезно было объяснять ему, что злополучный штырь я вбил не нарочно. Вызвали в школу отца…
Отец приехал, ввалился в учительскую в лохматой собачьей дохе с кнутом в руке. Широкий в плечах, да ещё в косматой рыжей дохе, он был огромен посреди тесной учительской. Сильно захмелевший, с маху стеганул бичом по столу. Грозно потребовал:
— Подать этого оболтуса сюда! Я покажу ему, как хулиганить!
И бичом по столу — хлясть, хлясть!
— Что вы, что вы! — замахали руками перепуганные до смерти учителя. — Гена — хороший мальчик! Это мы так… Побеседовать хотели… Нет, всё нормально. Не беспокойтесь…
— Ну, ладно, а то я сейчас всыплю ему вшивальника… Вот так! — хлестнул напослед отец бичом по столу, и шатаясь, удалился. Больше его в школу не вызывали. Строг был отец со мной, но не таю в душе обид на него, ибо сказано в Книге притчей Соломоновых: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Гл. 13, (24). «Не оставляй юноши без наказания; если накажешь его розгою он не умрёт: ты накажешь его розгою и спасёшь душу его от преисподней». Гл. 23 (13, 14). И ещё: «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Гл. 19 (18).
А директор завёл меня к себе в кабинет и ласково попросил:
— Гена, дружок, пожалуйста, оставь свои штучки. Учителей покалечишь — кто тебя, обормота, учить будет?
— Да я нечаянно, Николай Иванович…
— За «нечаянно» бьют отчаянно! Слыхал, небось? В другой раз сниму штаны и самолично ремнём отстегаю! Смотри у меня!
Бывало, вызовет за какую–нибудь провинность, укажет молча на стул, а сам по телефону разговаривает, пишет, книги перелистывает, с учителями беседует о школьных делах, журналы просматривает, на меня ноль внимания. Как будто и не сижу я вовсе перед ним на стуле уже битых два–три часа. Вдруг оторвётся от кипы бумаг, разложенных на столе, спросит как–бы невзначай:
Читать дальше