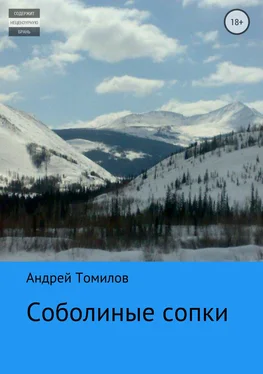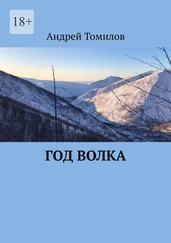Река холодеет. Стынет. Первое время ночами, а потом уже и днями, над плёсами лесными поднимается туман. Принимая причудливые формы, переливаясь из сумерек в ночь, колышется это марево, трепещет от малейшего движения воздуха, будит воображение запоздалого охотника. И одиночество. Ощутимое одиночество. Иных звуков и не поймает ухо, кроме бормотания струй, кроме нежного, ласкового журчания. Смолкли птахи лесные, попрятались в скальные расщелины, да дупла, в ожидании наступления зимы, в ожидании прихода настоящих морозов.
Ближе зима подступает. Уже не только на плёсах, и на перекатах говорливых, над теми самыми камнями, тоже стоит туман, и день, и ночь. Только не стоит он, а плывёт, будто плавится вверх, против течения. Как пьяный мужик, неловко торкнется плечом в косяк, так и туман, – уперевшись в скалу прибрежную, шарахнется от неё, крутнётся даже, и снова плывёт, ластится к воде.
А там уже стекляшки появляются, тоненько позвякивают, как самые нежные, самые высокие нотки. Это шуга пошла. Она ещё едва заметна, скорее услышишь её, чем увидишь, но это совсем не долго. Уже через день-два шипеть начинает вода, это шуга сама о себя трётся, оттого и звуки издаёт такие. И с каждым днём всё усердней, всё громче шипит река, всё плотней, всё крепче лепёшки из смёрзшейся шуги. Уже от берегов растут кромки ледяные, вначале робкие, податливые, но за несколько дней так крепнут, так припаиваются к берегу и донным камням, что уже, ни какая сила не сможет их нарушить, сдвинуть с места. Снегири откуда-то прилетают, прыгают по закрайкам, прыгают, а потом срываются с места и стайкой растворяются в нависшем над льдом от тяжести ягод рябиновом кусту.
Замолкает тайга в эти дни, ждёт таинства, ждёт становления реки. Чуть ропотнут дерева, самые долгие, самые высокие, которых заденет обеденный ветерок-верхогляд, шёпоток пролетит в самых вершинах, и тут же смолкнут опять, косятся боязливо на шипящую в тесных берегах ртутную стылость и молчат, лишь всё больше распускают под тяжестью снега пониклые руки – ветви.
Под кедрами огромными, да под елями, совсем ни снежиночки, всё на ветках осталось, не долетело до земли ни одной звёздочки. Зато берёзки с осинками уже прилично подгребли под себя мягонького, тёпленького снежка, укутали свои ноженьки в ослепительно белый, ласковый мех.
И каждый день забереги увеличиваются, прирастают. Их уже и заберегами не назовёшь, скорее это уже покрывало речное, ещё не панцирь, но покрытие доброе. Снежком-бисером припорошено, приукрашено следочками – узором зверушек лесных по прибрежью. Да и подле воды кто-то отметины оставил: или выдра лазила, озабоченно озираясь по сторонам, или норка отдыхала от трудов каждодневных. Нахохлившись, сидит неугомонный ныряльщик – оляпка.
Плотным, крепким становится в это время речной туман, таким крепким, что пройдёт охотник по льду, вдоль водицы свинцово отсвечивающей, а за ним след остаётся. Не на льду, а в воздухе, в тумане проход образовался, и долго висит, хоть снова иди туда.
Но приходит время, когда и узкая лента воды, что так долго отделяла один берег от другого, перехватывается тонкой плёнкой льда, – сковало реку. Вот теперь образовался панцирь. Спряталась водичка от морозов нахрапистых, укрыла подо льдом да под снежком тёплым свои звонкие струи. Притихла там, подо льдом, ни журчит, ни шумит. Притихла, словно в ожидании. И не понятно чего она ждёт, восторга ли, страха ли, испуга? А может и не ждёт ничего, просто успокоилась, задремала.
Думала, что до самой весны укуталась, успокоилась. Ай, да ошиблась.
Со своими делами суматошными не заметила река, как по крутому берегу, упорядоченному пышным сугробом пролегла, прочертилась глубокая лыжня. Временами по ней с шипением, со скрипом, с каким-то всхлипыванием прокатывались подбитые камасом лыжи, на которых стоял бородатый, с закуржавевшими усами, широкоплечий охотник.
За спиной у него топорщилась поняга, а на плече висело ружьё. Охотник каждый раз останавливался подле заголившейся осинки и, придерживаясь за её талию, заглядывал под крутой берег, высматривал свой капкан, установленный на норку ещё по осени, но так и не сработавший по назначению.
Отступал на шаг, – любовался девушкой-осиной. Оглаживал шершавой ладонью плечи покатые, смущал ласками. Удивлённо глядела осинка вслед удали, вслед молодости, ловкости, беззаботности. А охотник оглядывался, нежно помахивал ей рукой и с сожалением думал: «Кто же это, и за какие провинности превратил милую девушку в осинку. За что?»
Читать дальше