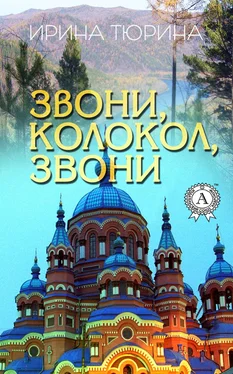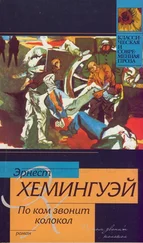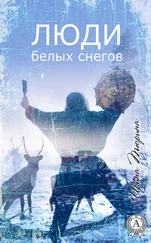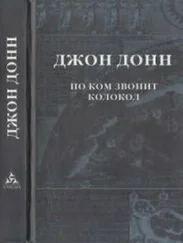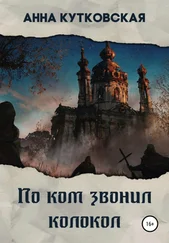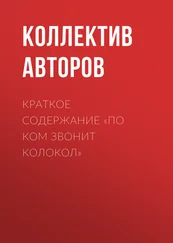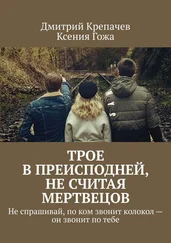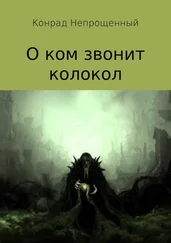Ефимий с интересом посмотрел куда показывали мужики. Постоял, помолчал.
– Поехали Кузьма, а то приказчик меня наверное уже заждался, – пристально глядя на неказистый собор произнес Ефимий Андреевич тоже крестясь, садясь в карету.
– Вроде ничего спокойный, может при нем все на заводе и наладится, – проговорил один из мужиков, глядя в след, удаляющейся карете.
– Поживем, увидим. В тихом омуте черти водятся, – проворчал второй.
Затем мужики отправились по пыльной дороге, которая вела на водочный завод.
Кузнецов Ефимий Андреевич, не смотря на коммерческую хватку был добрейшим человеком. Может быть, поэтому его невзлюбило местное купечество, потому что много денег тратил на благие дела. Деньги не должны лежать в кубышках, капитал должен приносить пользу всегда высказывался по этому поводу Кузнецов. После переезда из Тобольска в Иркутск Ефимий Андреевич вкладывал очень много собственных средств в развитие города. Конец раздорам между Иркутскими купцами и Кузнецовым положил генерал-губернатор Михаил Михайлович Сперанский. Он, как власть города был заинтересован в содружестве между богатыми представителями Иркутска. Столица России была далеко и, чтобы помогать городу Иркутску развиваться, как все Российские города, нужны были щедрые вложения. Этому могли в те года только способствовать Сибирские местные меценаты. Таким, как раз благородством и беспокойным характером обладал Ефимий Андреевич Кузнецов. Местных купцов видимо заела совесть и они тоже начали помогать расстраивать город. До середины девятнадцатого века Иркутск очень преобразился в лучшую сторону и стал одним из крупных торговых городов Сибири. И все это, благодаря большому вкладу Ефимия Андреевича Кузнецова. На склоне лет Кузнецов стал часто болеть, если по молодости из-за занятости он не мог часто посещать церковь, то теперь состарившись он стал частым посетителем храма. Был даже выбран старостой прихода. Особенно он любил ходить вместе со своей супругой в Богоявленский собор. Этот храм не был так красив, как многие другие церкви города Иркутска. Но почему-то именно здесь Ефимий Андреевич находил покой и умиротворение. Собор находился недалеко от реки Ангары на Тихвинской площади. Прохладный, влажный воздух, дувший от реки окутывал собор свежим воздухом и казалось, что дышится легче. Подходя к церкви можно было уловить речной запах, голоса рыбаков, хлопанье весел о воду. Ефимий Андреевич после посещения храма вместе со своей любезной супругой часто прогуливался по берегу реки Ангары, любуясь прозрачностью ее вод.
– Вот смотрю я на воды Ангары возле берега и все время удивляюсь их прозрачности. Даже несмотря на то, что человек всяко разно гадит в эти воды, а она все равно находит в себе силы от всего этого очиститься и быть величественной и чистой, – рассуждал Ефимий Андреевич, прогуливаясь по берегу со своей супругой.
– Так она же вода течет себе да течет, – проговаривала жена, Ефимия Васильевна.
– Да, человек тоже по большей части из воды состоит, а за свою жизнь столько в себе плохого накопит, что никаким душистым мылом не отмыть.
– Ты уж батенька Ефимий Андреевич слишком строг к себе. Тебе ли печалится о душе. Ты за свою жизнь столько полезных дел сделал.
– Это верно, но хочется на склоне лет совершить, что-то светлое, величественное. Я вот о чем подумал. Думаю, что в своих благородных замыслах найду с твоей стороны только поддержку.
– Говори уж, неспокойная душа, что опять задумал?
– Хочу собор новый построить. Большой, светлый, с куполами величественными, чтобы видно было этот храм издалека, а звон колокол был слышен по всему Иркутску.
– Да в Иркутске и так церквей множество.
– Все это конечно так, но разве верующему человеку может быть много храмов. Богоявленский собор один из посещаемых в городе. На хорошем месте расположен, вот люди к нему и тянутся. Река недалеко. Иркутск за последние годы прибавился значительно в население, но собор по вместимости уже мал стал. При большом скопление народа тяжело там находится, душно становится. По большим праздникам всех желающих не вмещает, поэтому я склоняюсь к тому, что уже возникла необходимость построить новый храм. Завтра же напишу архиепископу Иркутскому и Нерчинскому преосвященному Нилу, чтобы он удостоил меня честью принять от меня пожертвование.
Через несколько дней архиепископу Нилу было доставлено письмо, в котором писалось:
«Я имею на себе обет, данный господу Богу в дни испытаний моих, когда боролся с лишениями и опасностями…, обет сей много лет носимый в душе моей… в том состоит, чтобы собственными средствами без всякого стороннего вспомоиществования, но своеобразно с требованиями времени, воздвигнуть в Иркутске Кафедральнй Собор. Преисполненный чувствами, обращаться к Вашему Преосвещенству с покорнейшей просьбою. Примите в распоряжение в свое для издержек на построение Собора представляемый при сем капитал… Всего на сумму двести пятьдесят тысяч серебром. При этом я не ставлю каких-либо условий, а лишь скромно понадеялся, что смиренный задатель воскрешаем в памяти служителей алтаря Господня не изсякаемою благотворительностью своею, конечно, обрящет отраду, что имя его не забудется при жертвах и молениях, возносимых к богу. Написано сего года одна тысяча восемьсот сорок девятого года.»
Читать дальше