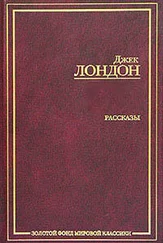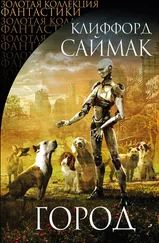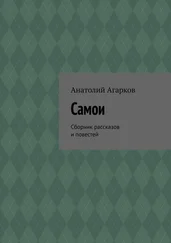Чаликову хотелось плакать. И хотелось домой. Он робко указал глазами на початую бутылку.
– Можно это с собой забрать?
– Молодец, – похвалил его оперативник. – Это по-нашему. Бери бутылку и иди домой. О нашем разговоре – никому, даже Господу Богу. В библиотеках больше не появляйся. Чаще появляйся в притонах, на пятаках, прислушивайся, приглядывайся. Будешь хорошо работать, нужды знать не будешь. На мелочевке попадешься, отмажу. Запомни: моя фамилия Пригожин, оперуполномоченный уголовного розыска. Василий Пригожин. Будут проблемы, позвонишь, Рафаэль…
Чаликов жалобно взглянул на милиционера.
– Ну, ладно, ладно. Иди домой. Намучился, знать, с непривычки. Все мы люди. Понимаю я тебя, брат. Нынче время не для таких как ты. Пропадешь, если не научишься кусаться. Хочешь, совет дам? Никогда ни перед кем не пресмыкайся. Народ сейчас злой. Слабого не пожалеют. А пресмыкающегося будут топтать. Извини, брат, за такую примитивную психологию. Дальше будет еще хуже.
Чаликов поблагодарил милиционера за помощь и вышел. Отныне он стал не просто мелким воришкой Чаликовым, спивающимся от нужды и нечистой совести. Отныне он стал Рафаэлем, человеком без имени и без воли, рабом, клейменым печатью иудиного ремесла. Он стал половой тряпкой, о которую всякий, более сильный и наглый, мог вытереть грязную обувь.
И жизнь Сергея Ивановича, и без того непутевая, превратилась в сущий ад. Он продолжал пить, и теперь его пьянки раз от раза становились все отчаяннее и горше, потому как заливать вином приходилось новые муки еще не омертвевшей окончательно совести – муки иудиных доносов, вознаграждаемых не тридцатью сребрениками, а конфискованной у самогонщиков водкой, которую он выпивал вместе с теми, на которых тайно доносил. Черный квадрат всасывал Чаликова все глубже в свою гнилостную трясину, душил его, призывая смириться с адом, отравлял, казнил его ежечасно за отсутствие самоуважения.
Однажды, блуждая без всякой цели по улицам города, он случайно столкнулся со своим старым знакомым, с которым когда-то учился в художественной академии. Чаликов помнил, как они вместе с другими молодыми бородачами пили крепкий чай и до утра спорили в мастерской о высоком предназначении художника в этом огрубевшем мире, разговаривали о вечном. Чаликов хотел проскочить незамеченным мимо Ильи Первакова, стесняясь своего опустившегося вида: неряшливого костюма, трясущихся рук, красных слезящихся глаз, стесняясь своей нищеты, бросающейся в глаза всякому встречному. Но тот окликнул его сам, и первый подошел к Чаликову. Перваков был одет в импозантный дорогой костюм и выглядел весьма респектабельно.
– Привет, дружище, – сердечно приветствовал он Чаликова, словно не замечая его стеснения. – Часто вспоминаю тебя, наши беседы. Куда ты пропал, дружище? На вечере выпускников тебя не было, телефон не отвечает.
Чаликов краснел и мялся, испытывая озноб от утреннего похмелья, а Перваков внимательно вглядывался в лицо друга. Наконец, поняв его положение, он достал из кармана бумажник, вытащил тысячную купюру и попросил «без обиды» принять от него эти деньги, не беспокоясь о возврате долга. Потом сунул ошарашенному Чаликову свою визитку и попросил навестить его на службе, тем более что Перваков хотел предложить приятелю «денежный и полезный для души» заказ. Более он не сказал Чаликову ни слова и удалился, напомнив напоследок о хорошем заказе.
Чаликов долго, словно в оцепенении держал тысячную купюру и визитку, потом как будто очнулся, спрятал деньги в карман и прочитал то, что было выведено золотым тиснением на карточке: «Настоятель храма во имя Жен – Мироносиц. Иерей Илья Перваков».
«Так вот оно что! Он стал священником. Невероятно. Как же я пойду в храм со всем тем кошмаром, что творится в душе? – подумал Чаликов. – А заказ? Быть может, это что-то действительно денежное и полезное для души? Разве в наше время такое возможно? Чтобы и денежное и полезное для души одновременно. Господи, как я соскучился по настоящей работе!» – прошептал Чаликов, и вдруг слезы выступили у него на глазах. Прохожие, проплывавшие мимо него словно в тумане, с удивлением смотрели на стоявшего посередине улицы плачущего, неряшливо одетого мужчину, похожего на бомжа.
С тысячей Чаликов поступил так же неразумно, как и со всеми остальными деньгами, которые приходили к нему в виде подачек. Он пропил и проел ее с дворовыми пьяницами за два дня. Хвалился перед ними визитной карточкой с золотым тиснением; утверждал, что жизнь его скоро изменится весьма круто, что его старый приятель Перваков, а ныне настоятель храма отец Илия не оставит его в беде и подбросит заказ на реставрационные работы в церкви; врал, что ему, Чаликову, ничего не стоит завязать со спиртным, что он со своим талантом еще покажет всем, на что способен его гений. Дворовые алкаши, большинство из которых были простыми работягами, не разбиравшимися ни в искусстве, ни в церковной жизни, пили водку Чаликова, ели его закуску, и ничего не понимая из пафосной похвальбы художника, одобрительно мычали и дружно кивали головами. Чаликов не был человеком их круга, они чувствовали это нутром, однако в отличие от зажиточных мясников с рынка не унижали бывшего интеллигента, не куражились над ним, а молча слушали его побасенки, как в сказке о лягушке – путешественнице бывалые жабы слушали завравшуюся в похвальбе, влюбленную в себя лягушку. Не раз битые жизнью, дворовые пьяницы были уверены в том, что нечего мечтать о свободном полете птиц тому, кто родился и жил в болоте. Однако никто из них не решался опустить на землю размечтавшегося враля, потому как Чаликов был хозяином водки, которую они вкушали.
Читать дальше