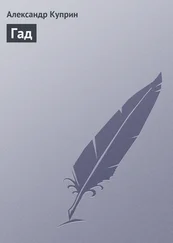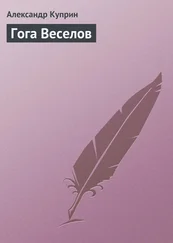– Ты с ума сошел? Какие пять? От шестнадцати у вас в горкоме комсомола скидка сразу к пяти? Я бы понял, если б ты попросил штукарь-полтора скостить!
– Ну Саша! Где твое сострадание? Перед тобой раздавленный горем человек, у которого отбирают Родину. Какие могут быть пропорции?
– Не, Додик, так не покатит. Давай я тебе скину по принципу «Пятилетка – в четыре года», то есть три двести.
Но хитрющий аид был непреклонен, и через полчаса препирательств я согласился на шесть тысяч сегодня. Не оттого, что он меня уболтал – все его нытье было с приправой смешинки, но, рассудил я, а вдруг он завтра уже того – в Тель, свой, Авив свалит? Маловероятно, конечно, сам я бы так никогда не поступил, но все же, все же…
– Хер с тобой, – говорю, – давай шесть, подонок и жадина!
И что вы думаете? Додик снимает со стены огнетушитель, под завязку забитый баблом, весело искря своими черными, как ночь, глазами, отсчитывает мне шесть тысяч – там даже не убавилось, и начинает смеяться, демонстрируя здоровые, чуть кривоватые зубы.
Обидно мне стало до слез, но ведь ничего не поделаешь – Слово сказано. От досады стал я мерзавца передразнивать, да сам не заметил, как стал ржать в унисон. Хороший он человек, скучаю за ним, как принято говорить в Одессе. Легкий и веселый, даром что еврей.
Ценю Слово. Данное мне или мною данное – ценю. Истинно говорю вам: великий адвокат и мастер буквосплетения во мне пропал. А может, и не пропал вовсе, а дремлет в ожидании часа своего.
С обеда я принялся ждать обещанного вызова из хаты, но никаких вызовов не случилось. Меня это, честно сказать, опечалило. Хотел я сказать этим комбинаторам в хороших костюмах, что смотрящего со сцены следует удалить, клиента показать лепиле – доктору тюремному, а все остальное я сам сделаю в наилучшем виде. Но не судьба – никто меня не выдернул, думаю, чтобы не вызвать подозрений. Перестраховались дети железного Феликса. Около пяти часов кормушка в двери открылась и продольный крикнул мою фамилию. В отверстие он просунул три листа трудночитаемого текста, потребовал на чем-то расписаться и удалился. Это была пятая или шестая копия Постановления о прекращении уголовного дела, сделанная на истертой копирке. Разбирать этот документ пришлось коллективно, на что, как я смекнул, и было рассчитано. Стрелы камерного гнева полетели из-за зарешеченного узенького окна в далекий город Тюмень, где должны были поразить в голову неведомую гражданку Голденфарб, написавшую на меня ложное заявление. В ходе общекамерного обсуждения недостойного поведения указанной гражданки вскрылись вопиющие факты. Оказалось, что плутовство в равной мере свойственно многим носителям подобных фамилий. Я же в этом разгуле антисемитизма участия не принял, а стал орать и требовать от продольного незамедлительного освобождения. Пришел попкарь и разъяснил, что Постановление об освобождении из-под стражи – совсем другое постановление. Напечатать оба следователь не успел. Завтра. И захлопнул кормушку. В пять сорок принесли ужин, но мне положено было изображать сильное душевное волнение с полной пропажей аппетита, и я свою пайку отдал ворам, а сам принялся нервно ходить. В восемь, как обычно, вечерняя проверка и «тормоза» – камерные двери – запираются до утра. Открыть их никак нельзя – только в случае какого-нибудь совсем уже невообразимого кипеша – поджога матрасов, лопнувшей трубы или прочих буйств. Лампы горят всю ночь, и в этом тусклом свете совершаются все тюремные мерзости и непотребства, каковых и в животном мире не увидишь.
Все, на что я подписался, мною сделано. Я отыграл свою роль, выполнил финальный аккорд, и клиент знает, что завтра для меня откроется дверь. Тем не менее он не выразил желания общаться и отказался от предложения сыграть в шахматы. Ну что я еще могу? Остается еще шанс, что он заговорит во время завтрака. Я сделал из куртки подобие подушки, настоящей сплющенной казенной подушкой прикрыл голову сверху и с горем пополам заснул. И тут кто-то осторожно тронул меня за плечо.
Саша Панченко объявился в среду первого сентября. У Долина это был, наверное, лучший день за последние несколько лет. Дочка пошла в первый класс, и он провел с ней и с Леной почти весь день. Сначала бывшие супруги проводили Динку на первый звонок, затем посидели в кафе, затем разошлись. Долин ненадолго заскочил в Управление и вернулся в большую профессорскую квартиру на Сретенском бульваре – пора было уже забирать первоклашку из школы. Первый день – короткий день. Динка велела отцу вновь подняться домой, чтобы на кухне в третий раз рассказать обо всем-всем-всем, что она увидела в школе. Долин с Леной много смеялись, попили чаю, и майор вышел на бульвар. «Ничего-ничего еще не потеряно», – размышлял он, шагая к метро, и вновь по лицу его гуляла улыбка надежды. На «Чистых прудах» эскалатор понес его под землю.
Читать дальше