В просторной кухне с провисшими, протянутыми из угла в угол веревками, на которых сушилось женское и мужское белье, наволочки, пеленки и простыни, топтались у длинной, облицованной белыми квадратиками плиты женщины. На Егорушку почти и не взглянули. Только одна, худая, с черным от загара лицом, сидевшая на корточках перед духовкой, выжидательно повернула голову к двери и, увидев мальчика, стала медленно выпрямляться, вытирая руки о передник; да костлявая старуха, сгорбившаяся у бокового столика над примусом, уставилась на Егорушку круглыми выцветшими глазами.
— Никак племяш? — Женщина обеими руками пригладила свои жидкие редкие волосы. Лицо ее, некрасивое, длинное, стало растерянным. — Ну точно, Егорка. Мама, видите, Егорка приехал! — На секунду взглянула на старуху у примуса и, радостно ойкнув, метнулась к мальчику. Склонилась над ним, обняла, поцеловала. — А где ж дедушка? Ты чего один-то?.. Аль случилось что? — И когда Егорушка не ответил, а лишь учащенно, прерывисто засопел, встревожилась. Заглянула испуганно в лицо. — Чего случилось-то? Сказывай!.. Захворал дедушка? Помер?
Егорушка крепился изо всех сил, чтобы не заплакать, но не удержался — всхлипнул, зашмыгал носом. Низко опустил голову. Еле слышно, сдавленным голосом, с затяжными дрожащими вздохами рассказал о том, как убили деда, как похоронили его, поставив по-большевистски вместо креста пирамидку с красноармейской звездочкой, как чоновцы стрельнули три раза из винтовок…
Женщины перестали греметь кастрюльными крышками, ножами, сковородками — слушали серьезно, понимающе.
— Ой да сиротинушка ты несчастная, — надсадно заголосила вдруг, не дослушав, тетка. — Да сколь же эта война проклятая аукаться будет, да сколь же еще кровушке литься?.. Ой да горький ты, бездольный, горемыченький-и-ий, да за что же на тебя, такого маленького, столь несчастий-то? — Из ее глаз светлыми дорожками потекли по морщинистым щекам слезы.
Егорушка, не сдерживаясь больше, облегченно, в голос, зарыдал, уткнувшись лицом в теплый передник тетки. Она принялась торопливо оглаживать его плечи, спину.
— Пойдем, воробушек, пойдем, касатик, в квартеру, — оглянулась на старуху, попросила скороговоркой: — Последите за духовкой, мама, как бы не сгорели… — И опять к Егорушке: — Не убивайся, родненький, не рви себе сердце-то. Слезами дедушку не воскресишь, не воротишь… Ну успокойся, миленький, успокойся, золотце, будя плакать-то. Не то Танька с Манькой засмеют. Помнишь еще Таньку с Манькой-то? Не забыл?
Своих двоюродных сестер-близняшек Егорушка помнил, но сейчас с трудом узнавал: когда-то маленькие, щупленькие, с жидкими косичками-хвостиками, они, худые, так и не нарастившие мяса, вымахали выше Егорушки на целую голову и стали похожи на галок. Сходство усиливали и крупные цыганские глаза, и носастые, со впавшими щеками, лица, и особенно коротенькие, только начинающие отрастать, черные волосы, гладко облепившие головы. Танька с Манькой играли замызганными тряпичными куклами, но на скрип двери отбросили их, уткнулись носами в букварь, завыкрикивали старательно:
— Ре… ра… ру… Ре-спу-бли-ка… тр-р-ру-да!
Мать строго, с подозрением взглянула на них, стукнула одну, другую по макушке суставом согнутого пальца.
— Опять с цацками забавлялись?! — Но тут же сменила гневный голос на медовый: — Проходи, Егорушка, не гляди на этих дурех балованных. Ты уж небось бойко читаешь? Дед-то Никифор большой грамотности человек был, обучил тебя, поди. А эти все еще ма-ма в «мама» сложить не могут… Сейчас, сейчас покормлю тебя, потерпи.
— Не-не, не надо, теть Варь! Я в детском доме поел.
— Вправду? — Женщина резко остановилась на бегу, точно запнулась. Обрадованно посмотрела на племянника. — Значит, до вечера обождешь?.. Да ты проходи, проходи, — потянула его за рукав, подтолкнула в комнату. — А я побегу. Дела у меня… Смотрите, девки, не обижать парня!
Егорушка потоптался, направился было к столу, но передумал — свернул в сторону. Сел на лавку у окна, положил картуз на колени, огляделся.
— Егор, Егор, проглотил багор, — слегка повернув к гостю голову и хитро посматривая на него, запела негромко, словно бы самой себе, не то Танька, не то Манька. — Егор, Егор, полез на забор…
— …с забора упал, ногу сломал, — подхватила вторая, то ли Манька, то ли Танька, и тоже осторожно, с лукавой улыбочкой покосилась на него.
Егорушка показал им кулак, отвернулся к окну, принялся разглядывать желтый флигель в глубине двора. Сестры, осмелев, запели громко про багор и про забор— Егорушка не обернулся. Манька с Танькой смолкли. Но ненадолго. Пошушукались, прыснули, хихикнули и затянули новое:
Читать дальше
![Эрнст Бутин Золотой огонь Югры [Повесть] обложка книги](/books/417818/ernst-butin-zolotoj-ogon-yugry-povest-cover.webp)
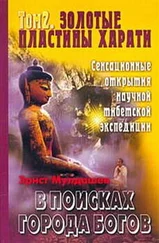
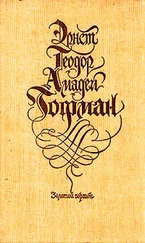

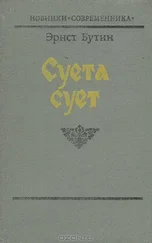



![Эрнст д’Эрвильи - Приключения доисторического мальчика [Повесть]](/books/392861/ernst-d-ervili-priklyucheniya-doistoricheskogo-malchi-thumb.webp)


