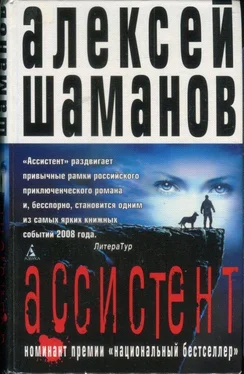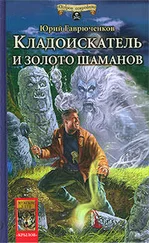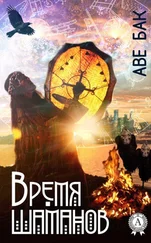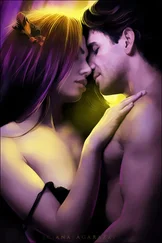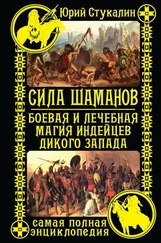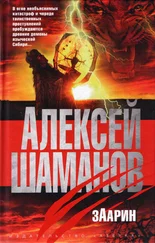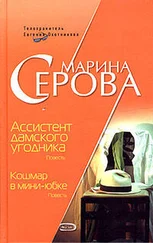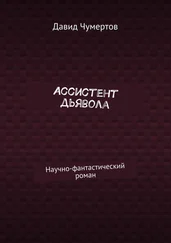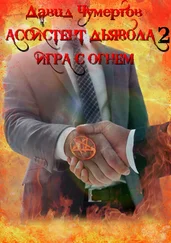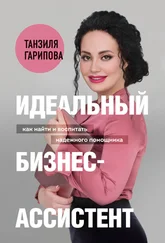Однако основное строительство Алибер развернул на вершине гольца, буквально прорубив к нему дорогу от нижнего подворья в скальных грунтах — так, чтобы можно было вывозить графит без особых хлопот. Теперь от крытого входа в шахту вела галерея в общую столовую, а надстройку над шахтой с островерхой башней и цветными стеклами завершил флюгер, на котором красовалась надпись: «1847 год». Лично для себя в центральной части гольца Алибер выстроил виллу с верандой, а неподалеку поставил прочные дома для рабочих. Воздвиг он и часовню, увенчав ее католическим крестом. Из пустой породы и низкопробного графита рабочие соорудили стену и два ветрореза, защищающие поселок от леденящих душу вьюг и снегопадов. Было намечено построить дорогу от Ботогола до Голумети длиной в сто пятьдесят верст.
Теперь, когда были созданы все условия для горнорабочих, Алибер всю свою энергию направил на то, чтобы достучаться до жильного графита высокого качества. Работать стали круглосуточно, и на это никто не роптал. Во всей Сибири не было ни прииска, ни рудника, где бы за труд платили так щедро, а уж питались ботогольцы не в пример каким-нибудь золотоискателям, которые сухари запивали квасом, а о залежалую солонину ломали расшатанные скорбутом зубы. Шахта углублялась, не прекращались взрывы, но графит на — гора выдавался все тот же: низкосортный.
Затраты не окупались, нависала угроза разорения. Приходилось часто выезжать в Иркутск, чтобы обмануть и успокоить кредиторов, начавших пугать долговой тюрьмой. Алигер был дипломатичен как никогда. С одним из жестких пройдох (неким Занадворовым) он составляет товарищество, прекрасно понимая, что подставляет свое горло коварному и ненадежному компаньону, но все-таки этот альянс лучше, чем ничего. Главное — выиграть время.
Алибер успокаивается и продолжает благоустраивать Ботогол, делает геологические вылазки, надеясь наткнуться на самоцветы, и даже обзаводится крохотной метеостанцией и обсерваторией. Он ведет дневник и разглядывает по ночам звездное небо. В Ботоголе случаются гости. Для них у излучин речек поставлены беседки, в которых можно отдохнуть после охоты. И тут приходит страшное известие. Графитовая выработка истощилась. Взрывы показывают, что дальше начинаются твердые породы — сиенит. В нем обнаружены лишь незначительные признаки графита.
На дворе 1853 год. Позади шесть лет неустанной борьбы с горой, на которую было потрачено почти все нажитое прежде. Алибер не вылезает из шахты, опытные друзья советуют прекратить работы. Сиенитовая перемычка, отделяющая верхний слой графита от нижнего, может достигать десятков, а то и сотен метров. Надежд на тонкий слой мало, с гольца надо уходить. Алибер никого не держит. Целыми днями он заново обследует шахту, лазает по горе, рассматривая выходы пород, а вечерами уединяется в часовне, стоящей на самой вершине, получившей название Крестовой Он тут единственный католик. Здесь его алтарь с портретами святых мучеников, Евангелие и несколько картин на библейские сюжеты. Цветные витражи в предзакатный час преображают убранство часовни…
Укрепившись духом, Алибер снова решает идти ва-банк. Он отдает распоряжение пробиваться сквозь сиенит, не жалея взрывчатки. Работы возобновляются. Лишь 3 февраля 1854 года на дно шахты наконец выбросило обломки графита. Это случилось в боковой выработке, названной Мариинской. Обследовав пробу, Алибер, опустошенный и радостный, долго сидел у стола. Обломок ничем не уступал борроудельскому графиту. Все еще не веря в удачу, Алибер упаковал образцы и поскакал в Иркутск. Лабораторный анализ подтвердил его предположения. А вскоре он убедился в том, что графита в шахте много. Опубликованная им статья в журнале Географического общества укрепила его репутацию.
Однако осуществить свою мечту полностью, построив в России карандашную фабрику, французу не удалось. Из-за истощившихся средств Алибер не мог учредить карандашное производство, а на приглашение войти с ним в пай никто не отозвался. Обманул его и Занадворов, мечтая, видимо, довести компаньона до банкротства и за бесценок скупить Ботогол. Но Алибер избежал этого, заключив контракт на поставку графита с известной фабрикой Фабера в Нюрнберге. Он довольно быстро окупил затраты. Большую партию графита ему даже удалось отправить в Германию благодаря сквозному пароходству, которое было организовано неусыпной деятельностью Муравьева-Амурского.
Долог был путь русского графита в Гамбург — через Дальний Восток и три океана. По зимним дорогам его везли в крестьянских розвальнях, лежал он на складах Шилки, дожидаясь навигации, и утекал ручейком за границу. Везли его и по Сибирскому тракту. И все же Фаберу это было выгодно — накладные расходы окупались с лихвой.
Читать дальше