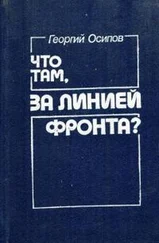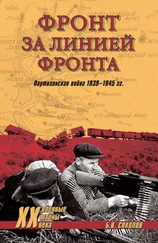— Товарищ комбат приказал мне остаться здесь, — доверительно докладывает Козеницкий.
Значит, комбат уже говорил с ними, проверил их.
— Толково приказано, — рассудительно замечает старик. — Они, видать, с опытом, — и он кивает головой в сторону Козеницкого. — А по теперешнему положению такие нам вот как нужны. Прямо сказать — до зарезу.
Он, видно, наблюдателен, этот старик: Козеницкий действительно подпольщик гражданской войны.
Договариваемся, что сегодня же ночью они распределят наших раненых по верным людям из окрестных сел.
— Только с медицинским персоналом у нас небогато: в армию все ушли, — замечает мужчина с бородкой.
— Оставим вам медсестру, Наташу Строгову, — и я показываю на стоящую поодаль нашу общую любимицу Наталку. — Не смотрите, что молода: лучшая в санбате, в боях проверена.
— Вот и хорошо! — радостно подхватывает женщина, сидящая на пне. — Будешь у меня жить, Наташа. За материну племянницу. Вместе фашистов бить будем.
— Погодите, погодите, товарищи. Видать, вы уже успели своим подпольем обзавестись? — спрашиваю.
Старик отвечает не сразу. Неторопливо разбирая связку веревок, медленно говорит:
— Как тебе сказать… Суди сам. Десять с лишним лет в нашем колхозе партийная ячейка работала. Корнями народ с Коммунистической партией сросся. Не оторвешь нас от нее…
— Что же надумали?
— Как все, так и мы… Когда Гитлер еще к Киеву подходил, в нашей ячейке людей собирали и рассказывали, что народ на Правобережье делает, под фашистами. Думаю, не отстанем от других: слово партии и для нас закон…
— Слышал, товарищ комиссар? — перебивает молодая женщина. — Слово партии никогда не забудется: что она скажет — всегда сбудется!
Женщина поднимается, откидывает платок, и я вижу большие, синие глаза, густые брови, яркий румянец на загорелых щеках. Она еще совсем молода: едва ли ей можно дать даже двадцать лет.
— До чего же ты шумлива, Катерина! — с добродушной укоризной говорит старик, явно любуясь ее юной горячностью.
— Не знаешь, где фронт, отец?
— Фронт? — помрачнев, переспрашивает он. — Фронта близко нет, сынок. Люди говорят — две недели назад наши Полтаву отдали.
Как тяжелые камни, падают его слова: вот уже два дня мы слышим одно и то же. Значит — правда…
— Ну, спасибо за помощь. Помните, оставляем вам самое дорогое, — и мы крепко жмем друг другу руки.
Возвращаюсь в лагерь. Костер уже пылает. Вокруг него бойцы, командиры, политруки. Заметив меня, вскакивают, привычным жестом оправляя шинели. Будто не было тяжелых боев, ночного перехода через болото, нестройной толпы, входившей в лес… Нет, они все те же — боевые друзья-кадровики!
Но почему некоторые жмутся, смущенно переглядываются?
Впереди всех стоит сержант Ларионов. Распялив на палочках свои брюки над костром, он конфузливо прикрывает колени полами мокрой шинели. В руке бережно держит небольшую серую книжечку. Рева положил сапоги у костра, набросил на них портянки, подобрал под себя голые ноги и сидит покуривает, стараясь делать вид, что ничего не случилось.
Я, наконец, догадываюсь, в чем дело, и, чтобы разрядить общую неловкость, спрашиваю:
— Что у тебя в руках, Ларионов?
— Сушу комсомольский билет, товарищ комиссар. — В голосе сержанта смущение и досада. — Вот башку спас, а билет не сберег, дурья голова…
Боец Абдурахманов сует в костер сухую ветку и задевает за палочки. Сержантские брюки падают в огонь. Ларионов бросается за ними. Под распахнувшейся шинелью на мгновение мелькает нательное белье. Сержант нечаянно спотыкается о Левины сапоги — и они летят вслед за брюками.
Смех, суета, веселая перебранка.
— Капитан, — обращаюсь к Реве. — Хочу поговорить с тобой.
— Сию минуту.
Рева торопливо обувается, но у него что-то не клеится.
— Скаженный! — с досадой бросает он, резко сдергивая сапог. — Не на ту ногу лезет, бисов сын…
Опять громкий смех у костра. Только Ларионов стоит особняком, осторожно разглаживая руками мокрые листки комсомольского билета…
Наконец, Рева приводит себя в порядок, и мы, отойдя в сторону, садимся на сваленное бурей дерево.
— Павел Федорович, Козеницкий остается с ранеными… Может, примешь его хозяйство? — предлагаю я.
— Начхозом быть?.. Ни! — решительно заявляет Рева. — Хозяйствовать и после войны успею… Ни, ни! — упрямо повторяет он. — Слухай, комиссар, — и Рева, волнуясь, начинает рассказывать свою биографию.
Вначале мне кажется — она ничего общего не имеет с темой нашего разговора, тем более что основное мне уже известно.
Читать дальше