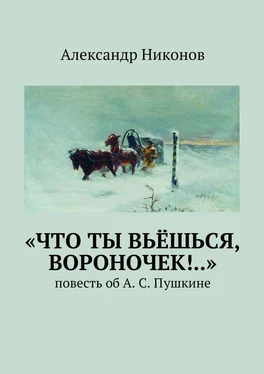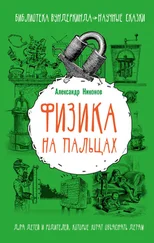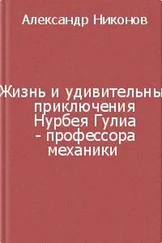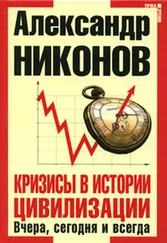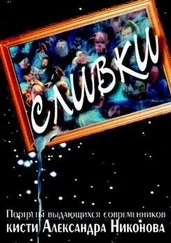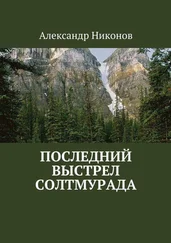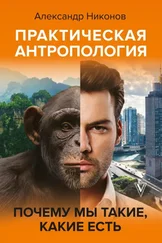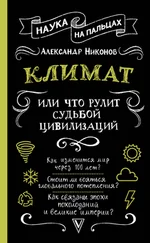Это был сухощавый шатен с курчавыми волосами, с бледным, мулатским лицом, с небольшими бакенбардами, молодыми усиками и толстыми губами. Иногда он вздрагивал, отрывался от дрёмы, вскидывал веки и живыми, с лёгкой голубизной, глазами, и смотрел по сторонам. На его тонких пальцах с длинными, лопатками, ухоженными ногтями, поблёскивали два перстня: на левой руке большого пальца и на указательном пальце правой.
Через несколько смен лошадей, во втором часу дня, тройка въехала в небольшой городок. Пассажир спросил:
– Что это за селение, сударь?
– Это Аишево, барин. Здесь через Каму переправляться будем.
– Надолго это, я тороплюсь.
– Не знаю, барин. Смотритель, должно, знает.
Прочитав подорожную пассажира, в которой было написано, что господин титулярный советник Пушкин по особо высочайшему повелению едет в Оренбургский край и что все губернаторы и местные власти обязаны оказывать ему на месте остановок всяческую помощь, содействие и беззамедлительное следование в дороге, полуграмотный смотритель всполошился. У пассажира к тому же был открытый лист-предписание смотрителям всех почтовых станций беспрепятственно выдавать положенное число лошадей, полученное от самого Московского почт-директора Булгакова. Смотритель подумал, что пассажир не кто иной, как попечитель Казанского учебного округа граф Мусин-Пушкин, который осуществляет инспекционную поездку. Правда, его смутил странный облик пассажира: низенького, живого, вертлявого, который постоянно спрашивал:
– Скоро ли отправимся?
– Просим немного обождать, господин Пушкин. Скоро с того берега дощаник будет. А пока, просим вас, пройдите в избу, вас там чаем угостят.
Наконец Пушкин переехал на другой берег Камы и приказал ямщику мчаться во весь опор. В дороге он вспоминал, как зародилась его мысль написать «Историю Пугачёва», которая гнала его сейчас по тем местам, где почти шестьдесят лет назад полыхала народная война. Пожалуй, впервые она зародилась во время его невольного пребывания в селе Михайловском ещё в конце 1824 года, когда он попросил переслать ему из его библиотеки роман какого-то неизвестного французского автора «Ложный Пётр Третий, или Жизнь, характер и злодеяния бунтовщика Емельки Пугачёва». Но там было столько вымысла, несуразицы и откровенной лжи, что поэт долго потешался над автором, высмеивая его литературные и исторические потуги.
В 1830 году, когда он находился в Болдино, в Москве и её окрестностях, а затем почти через год и в Петербурге, когда вспыхнули «холерные» бунты, его возмутили усмирения взволновавшегося народа, когда сам царь выезжал на место происшествия. Затем Пушкину привелось прочитать Сентенцию Сената от 1775 года «О наказании смертною казнью изменника, бунтовщика и самозванца Пугачёва и его сообщников», из которой он узнал о благородном дворянине, офицере-поручике Шванвиче, попавшему в плен к восставшим и перешедшему на их сторону. Предатель был прощён самим Емелькой и даже пожалован есаулом, а затем атаманом полка пленных и секретарём и переводчиком военной коллегии Пугачёва. Затем в беседе с генерал-лейтенантом Свечиным тот тоже рассказал о Шванвиче. Будто указы Пугачёва на немецком языке писал предавшийся изменнику трона дворянин-немец Шванвич.
Этот эпизод с «благородным дворянином», который перешёл служить к бунтовщикам, и послужил первым толчком к замыслу романа «Капитанская дочка». Но все русские и иностранные источники о Пугачёвском восстании не давали правильного и зримого представления ни о причинах этого восстания, ни о личностях, которые его вершили. Нужны были свидетельства живых очевидцев, которых ещё не поздно было найти. Но для такой поездки нужно высочайшее повеление. После долгих мытарств и прошений оно было получено.
Сейчас, по дороге в Симбирск, он вспоминал дорогу до Казани. Из Петербурга Александр Сергеевич планировал выехать 16 августа, но в этот день разразилась страшная буря. Царскосельский проспект был весь завален поваленными ураганным ветром деревьями, извозчики отказывались ехать через Троицкий мост, и пришлось путь в пятнадцать вёрст идти пешком. Сопровождал его Сергей Александрович Соболевский, который тоже ехал в Москву. Змеи вылезли из затопленных водой нор и большими клубками грелись на солнце. Иной раз мимо них невозможно было пройти, и приходилось их убивать тростью или палками. Соболевский, зная о суеверном характере своего спутника, посмеивался: «А не вернуться ли нам, Александр Сергеич? Говорят, змеи на дороге – плохая примета». Пушкин и на самом деле подумывал, не отложить ли поездку на некоторое время, но что он скажет императору, который дал ему целых четыре месяца отпуска на собирание материала о пугачёвском бунте. Нет, откладывать никак нельзя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу