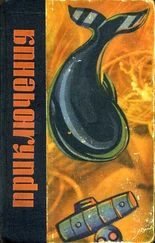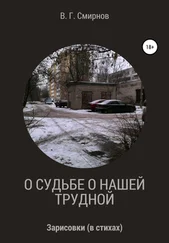— Ну, что ж. Приходи завтра к шести утра.
В доме тети Фени мной овладевает неясное ощущение тревоги. Как будто кто-то невидимый присутствует здесь, следит настороженно и враждебно.
Оглядываюсь. Изба пуста. Но кто-то был здесь. Ощутимы следы чужого. Ширма, отгораживающая мой закуток, отодвинута. Книги на этажерке стоят как попало. Наверху, где лежал томик Симонова, — справочник шофера.
Здесь хозяйничали нетерпеливые и неловкие руки.
У чемодана отщелкнут язычок замка. Вещи в беспорядке. Белая отутюженная рубашка смята.
Осматриваю содержимое чемодана. Так и есть. Конверты с письмами Жорки, хранившиеся в карманчике чемодана, небрежно брошены на белье. Их читали. Кому-то теперь известна цель моего приезда…
Но ведь тетя Феня неотлучно была в доме, она должна знать, что за чужак побывал в доме. Выхожу на крыльцо, где хозяйственная баптистка кормит индюшат.
— Тетя Феня, кто копался в моих вещах?
Баптистка моргает глазками и приставляет к уху ладонь рупором. Недослышала, конечно.
— Кто приходил ко мне?
— А никого не было…
— Нет, был!
— Я уходила из дому, не видела.
Она явно не договаривает чего-то, скрывает. Но допытываться у баптистки бесполезное занятие. Кремень старушка.
Больше я не могу оставаться в этом враждебном и неуютном доме. Куда пойти? В Козинске у меня нет ни одного близкого человека. Разве что Дробыш, маленький механик, который взял на себя заботу о моей машине. Он приглашал в чайную…
На крыльце чайной под электрической лампочкой толпятся шоферы. Счастливцев, у кого подошла очередь, впускают по одному дружинники. Пиво в Козинске — редкая удача.
— Михалев, давай сюда! — Дробыш, выбритый и в новом полушубке, кричит с верхней ступеньки.
Чайная оглушает гомоном и густым запахом пива. Пьют из кружек, пол-литровых банок и из графинов, пьют жадно, впрок. Не скоро еще выпадет шоферу свободный вечер, когда можно вот так посидеть за графином, не ожидая вызова.
Мы с Дробышем подсаживаемся к хлопцам, только что вернувшимся из рейса. Лица у них перепачканы мазутом. Шоферы шикуют: заказывают к пиву шампанского, щей, котлет, бананов и тарелку соленых огурцов.
За соседним столом, окруженный почитателями, восседает на табурете баянист. Гордо глядя поверх голов, он наигрывает «Чу-чу». Пальцы легко бегают по перламутровым пуговкам.
— Гуляют шофера! — Дробыш поднимает банку с пивом. Банки глухо стукаются. — Ну, будем.
Мы пьем жадно, большими глотками. Приятный холодок ползет внутрь.
Корявыми, разбитыми пальцами Дробыш держит нежно желтеющий банан.
— Я, парень, сегодня семь машин пропустил, ей-богу. И за слесаря, и за карбюраторщика, и за гонщика. Не хватает народу. Гремит нынче Сибирь. В славе!
Он окидывает взглядом шумный зал. Столики плавают в папиросном дыму, как острова в тумане.
— Ну, будем.
Чокаемся жигулевским. Графин пустеет, на стенках его оползает пена.
— Когда пришли первые машины, понял? — рассказывает Дробыш. — Всякие там «бюссинги», «амо», «форды», то-то было! Тракт плохой, машины скачут, как телеги. Тормоза негодящие. С горы, знаешь, как спускались? Срубим лиственницу или там ель, привяжем сзади за комель, сучьями против хода, и спускаемся, тормозим, понял, парень? А профсоюз у нас был — шоферов и авиаработников, понял? К летчикам приравняли, значит. Редко кто в шоферы выходил. А счас плюнь — в шофера попадешь. Гремит Сибирь, гремит!
Баянист быстро пробегает пальцами подряд все пуговки, мехи издают рыкающий звук. Соседние столики стихают.
— Шукшин петь будет, — шепчет Дробыш.
Шукшин тихо и медлительно начинает выводить мелодию. Его сухое, скуластое лицо по-прежнему бесстрастно.
Это бесхитростная песенка о девчонке, которая уехала неизвестно куда, затерялась в бескрайней Сибири.
Ой да ты, тайга моя густая,
Раз увидишь, больше не забыть.
Ой да ты, девчонка молодая,
Нам с тобой друг друга не любить.
Голос у парня слабенький, низкий, он поет как бы для себя, не думая о том, слушают его или нет.
…А наутро быстрые олени
Унесут в неведомую даль.
Уезжала ты одна по Лене,
Увозила радость и печаль.
Тихо становится в чайной. Наивная песня творит чудо, подчиняет весь гомонливый шоферский народ.
Усталые парни слушают баяниста. День за днем они воюют с суровыми саянскими километрами. Ночуют в жестяных кабинах своих машин. Мерзнут, умываются снегом, чтобы отогнать сон, и работа становится для них единственным смыслом существования. Они грубеют, ожесточаются.
Читать дальше