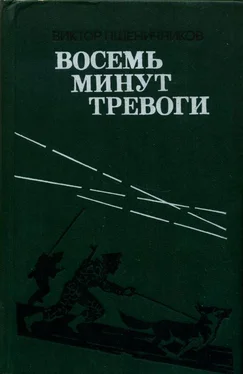В темноте вновь прозвучал чужой скрипучий шепот старика:
— Ну чего ты там возишься? Свети, говорю тебе, сюда!
Зыбкий огонь метнулся к потолку с проломом в небо, заколыхался по стене, отражая громадные тени пришельцев.
Хаятолла знал, что так просто чужаки не отступят, и понял: это конец. Рано или поздно его отыщут, выволокут из укрытия, и если он, чего доброго, начнет сопротивляться или звать на помощь, ему закроют рот навсегда. Хаятолла знал: эти люди с гор шуток шутить не любят…
Однажды, еще в горах, к Ахмет-хану привели человека. Лохмотья служили ему одеждой, а лицо было сплошь черным от побоев.
Ахмет-хан молча недовольно посасывал остывшую трубку, которую набивал ему Хаятолла, и ждал разъяснений.
— Господин, не губите! — Оборванец бросился в ноги Ахмет-хану. — Заклинаю: выслушайте. Я служу вам верой и правдой…
— Ты? Служишь? Мне? — Глаза Ахмет-хана сощурились, и Хаятолла, готовивший свежую трубку для главаря, заметил в них огонь. — Жалкий трус! Ты хотел переметнуться к неверным? Ты, кого я называл муджахетдином, хотел уйти от меня к проклятым кафирам? Предать? Да как ты смел после этого показываться мне на глаза?
В гневе Ахмет-хан грыз костяной мундштук самшитовой, в насечке из серебра, трубки.
— Это ошибка, господин… Выслушайте! Я мусульманин…
— Не оскверняй этого имени! Истинный мусульманин защищает священный коран оружием, а не языком. Где твое оружие, негодяй? Ты его бросил, собака! Ты струсил…
— Нет! Нет, господин… Мой автомат упал в пропасть… — пробовал защититься черный человек. — Случайно упал, поверьте.
— Почему ты не прыгнул следом за ним? — Ахмет-хан в злобе снизил голос. — Почему ты сам не разбился, когда упустил свой автомат? Или ты ценишь свою жизнь дороже — ты, сын шакала, жалкий болтун?
— Я добыл оружие в бою, мой господин, все это знают. И готов доказать вам свою преданность, готов искупить свою вину.
— Искупить вину? Доказать преданность? Что-то я не встречал преданности у трусов. Ха-ха-ха! Ты дрожишь, как овечий хвост. Ты так цепляешься за свою жизнь, будто это какое сокровище…
Ахмет-хан утомился разговором, вяло зевнул и загнутым носком мягкого красного сапога подковырнул камешек.
— Эй! — кликнул он стоявших наготове помощников. — Уведите его. Поищи себе друзей среди шакалов. Пусть они послушают твои речи. Пусть они насладятся твоим грязным телом.
Черный человек отчаянно вцепился в расшитую дорогой нитью, сверкающую на солнце полу халата Ахмет-хана.
— Не губите! Ради аллаха, пощадите моих детей: ведь пропадут…
— Прочь!.. Уберите его долой с моих глаз. Ублюдок.
Верная охрана подхватила оборванца под руки и, не дожидаясь повторных приказаний Ахмет-хана, подвела его, уже покорного, не упирающегося, к краю ущелья, легко столкнула вниз, и жуткий крик наполнил на миг ущелье, пропадая стремительно и неотвратимо.
Да, эти люди шуток шутить не будут…
Хаятолла на миг закрыл глаза, слизнул набежавшие бессильные слезы, вытянул руки по швам, как бы готовясь к худшему. Костяшки пальцев задели за что-то твердое, громоздкое, что оттопыривало карман и мешало Хаятолле на всем протяжении его такого громадного, почти в двести кружных километров в обход жилищ и кочевий, такого изнурительного пути, по которому мальчика вели и спасали два единственно стоящих, единственно нужных слова — «Шибирган» и «Олим».
Хаятолла еще раз провел рукой, желая удостовериться, что нащупал не корягу, не камень, а пистолет.
Это был старый, с изношенной собачкой и расплющенной рукоятью ТТ, простой и безотказный в работе, из которого Хаятолла мог без промаха сбить с двадцати шагов монету… Им он воспользовался только однажды — когда ночью, в горах, пришлось отбиваться от волков. Но патронов в двух запасных обоймах оставалось еще достаточно, и рука Хаятоллы в случае чего не дрогнула бы и не подвела.
Прислушиваясь к приближающимся шагам пришедших за ним людей, он ласкал ладонью длинный ствол пистолета. Удивительное спокойствие овладело им. В теле унялась дрожь, и уже не так донимал голод… Он пытался вызвать в себе ярость, которая дала бы ему уверенность в своих силах и правоте своих действий, оправдала бы любой его последующий шаг. Но злость в нем давно выкипела — ее выпарило солнце и развеяла дорога.
В нем еще жили ощущения постоянной боли, когда он шел по гребням скал и ущелий, неумолимого холода, когда ночлег заставал его на каменной высоте, жуткой жажды и голода, которые преследовали его на всем протяжении опасного пути…
Читать дальше