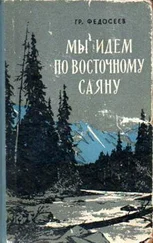Татьяна молча принесла второй сверток, распаковала и подложила Хорькову. Подошли к нему и двое остальных. Снимки шли по рукам, и на какое-то время были забыты все горести жизни. Перед людьми, уже терявшими человеческий облик, уже свыкшимися с мыслью о надвигающейся развязке, воскрес, как живое видение, весь пройденный путь: радости, невзгоды, удачи и надежды. И какое же нужно было иметь сердце, чтобы оно не дрогнуло при одной только мысли, что весь этот материал, собранный с невероятным напряжением сил, всей воли людей, должен быть ими же уничтожен! Они должны сжечь его, чтобы спасти свою жизнь. А кто-то другой вновь повторит этот печальный маршрут!
Костер догорал, тлели раскаленные угли. Хорьков схватил с земли охапку снимков и поднял их высоко, чтобы бросить в огонь, но... руки не разжались.
— Не надо, не надо! — заволновались люди, подступая к нему. — Может, как-нибудь унесем!..
Долго складывали снимки в том порядке, в каком они были. Разложили их по трем рюкзакам и уснули с неопределенным чувством тревоги за завтрашний день. А над тайгою плыла ночь. Это была одна из тех ночей, когда небо опускается близко к земле, когда звезды горят ярче и ощущение жизни необычайно сильно. Люди, очерствевшие от неудач, прижимались к холодной земле, как бы ища в ней ласку, столь необходимую в эти дни. Теперь только сон приносил им забвение, но и он был тревожен. Бредил в жару Абельдин, метался на жесткой подстилке, кого-то звал... Перед утром костер погас. На лохмотья уснувших людей упала роса, лес стоял в немом оцепенении.
Первым проснулся Хорьков. Оглянулся. Из-за гор сочилось утро, наполняя лесные просторы голубоватой дымкой. Не поднимаясь, Хорьков ощупал худыми пальцами раны на ногах и удивился: они затянулись твердой коркой, и теперь малейшее прикосновение к ним вызывало нестерпимую боль. Он на четвереньках дополз до огнища, разгреб пепел и на тлеющие угли положил сушник. Затем разбудил остальных. Люди неохотно возвращались к действительности. Она не обещала им ничего хорошего. Теперь все понимали, что с каждым днем они приближаются к роковой развязке и что этих дней у них остается совсем мало, гораздо меньше, чем у каждого пальцев на руках. И все-таки в людях жила надежда и теплилась вера в то, что Хорьков совершит чудо.
Отряд продолжал свой путь, который лежал на верх хребта. Подъем затянулся. Еще плотнее сомкнулась тайга. Сваленные бурей деревья, давнишний колодник, чаща, заросли папоротника — все, что в другое время никто не заметил бы, теперь было серьезным препятствием. Земля, по которой они передвигались, настойчиво манила их к себе на мягкую подстилку, обещая долгий покой. И людям, уже хлебнувшим так много горя, хотелось оборвать этот мучительный путь, прилечь на пахнущий прелью «пол», прижаться к нему всем исстрадавшимся телом и уснуть, не тревожась больше о земных делах. Но жизнь в них еще теплилась, и они шли. Хорьков мечтал сейчас об одном, только об одном — перебраться за водораздел. Он убедил себя и спутников, что за ним, за этим пологим, как спина сытого медведя, хребтом их ожидает удача.
Подъем оказался долгим и крутым. Впереди неожиданно вспыхнул просвет, и путники, почти на четвереньках, выбрались на поляну. Идти дальше у них не было сил. Какова же была их радость, когда они увидели перед собой густые заросли голубики! Спелые, иссиня-черные ягоды гроздьями свисали с веток, словно нарочно их рассадила здесь чья-то добрая рука. Забыв про все, путники рвали ее скрюченными пальцами и горстями запихивали в рот. И только после того, как прошли первые, минуты радости, когда немного привыкли к обилию пищи и каждый понял, что нет смысла торопиться, что ягод хватит на всех, они вспомнили про боль и усталость.
— О, еще стоит жить, если можно так поесть, — сказал Хорьков, размазывая по губам черный сок.
Надо было хорошо отдохнуть перед последним подъемом. Все сняли сапоги, чтобы освежить раны, проветрить их и унять боль. Они несколько часов подряд «паслись» на голубике, передвигались ползком от куста к кусту. Абельдина, который уже почти не мог двигаться, кормили поочередно. Он брал от товарищей голубику дрожащими руками, долго заталкивал ее в рот, бессмысленно жевал, не ощущая потребности в пище, не чувствуя вкуса ягод и не терзаясь голодом. Ел потому, что все ели, и потому, что так надо.
Путники разломили пополам последнюю лепешку и одну часть разделили на всех. Абельдину дали сверх этого щепотку сахару. Он грустно посмотрел на свой кусочек хлеба, затем проткнул пальцем в нем отверстие, заполнил его сахаром и спрятал все это далеко за пазуху. Кто знает, что побуждало его запасаться, — может быть, инстинкт, а может быть, у него уже не было потребности в пище.
Читать дальше