«Тик-так, тик-так…» — звук был слабым, как будто где-то вдали постукивал метроном.
Он помнил, что часы его давно остановились, разъеденные соленой водой.
«Тик-так, тик-так…»
Что это? Неужели он, приникнув к руке, слышит пульсацию крови в своих венах, равномерный, живой шелест уходящего из тела тепла? Все медленнее и медленнее: «Тик-так, тик-так».
Он чуть приподнял голову и открыл глаза: со шлемофона стекали капли и одна за другой падали у каменного холодного изголовья: «Тик-так, тик-так…»
Все пространство вокруг было заполнено белесой туманной мутью, состоявшей из смеси снега и дождя.
Он дотянулся до кобуры и заставил пальцы сжаться, ухватить рукоятку пистолета. Оттянул затвор — темный зев казенника был пуст. Тогда, вспомнив, он пошарил за пазухой, нашел в заветном кармашке куртки последний патрон и, ухватив его, как клешней, одеревеневшими пальцами, вложил в ствол.
Все вокруг было тихо, только по-прежнему — «тик-так, тик-так» — вода скатывалась со шлемофона, отсчитывая последние секунды жизни.
Память словно волшебный фонарь-проектор: кто-то вставляет одну за другой четкие картинки. Он разглядывает их с вниманием и равнодушием постороннего человека — ну какое отношение имеет к нему этот переливающийся всеми красками радости, надежды и ожидания мир! — и вдруг узнает себя, Ивана Соболева, свои мечты, своих друзей, Лиду.
Мальчишка рос на берегу теплого моря. Ловил крабов, деловито мельтешивших меж камнями, искал округлые, отшлифованные камешки с выточенной волной дырочкой, — «куриный бог», как говорили, приносил счастье.
Собственно говоря, «куриный бог» — а таких амулетов у него накопилось столько, что вся его будущая жизнь смотрелась словно в позолоте, — был мальчишке вовсе ни к чему. Он и без того был счастлив, переполнен морем, пропитан солью и солнцем и не представлял, как это люди могут жить в иных местах, где мало тепла, где не слышно шума прибоя, где не видны у самого горизонта белоснежные корабли. Конечно же, он, как и сотни его сверстников, мечтал стать моряком, военным моряком. Дорога в школу шла вдоль берега, и каждый раз, засмотревшись на маневр корабля, Иван опаздывал на уроки, если не выручала Лида, соседская девчонка.
— Ваня! — строго кричала она со скалы, как со сторожевого поста. — Звонок был, Вань! Да ну что ты, торпедного катера не видел, что ли?
Иван подчинялся ей беспрекословно. Были, видимо, на то причини.
Все переменилось в сентябрьский день, когда они сидели у берега моря, слушая грохот волн.
— Я решил: буду летчиком, — твердо сказал Иван. — Понимаешь, море все-таки изучено. А небо — нет. Посмотри, — он показал на вспененный горизонт. Ветер гнал крупную, тяжелую волну, штормило, но далеко-далеко, на фоне серых облаков упрямо полз вперед одинокий кораблик. — Видишь, даже сейчас море живет. А небо пустое. И потом — в небе труднее. В небе человек один, ну, в крайнем случае, несколько, а корабль — это целый город. А потом — сейчас в авиации целый переворот, реактивная техника появилась. Скоро человек переступит звуковой барьер…
Он говорил долго и запальчиво. За шестнадцать лет их знакомства — вот уж, что называется, дружба с пеленок! — Лида впервые услышала такую длинную речь.
— Значит, ты уедешь в летное, уедешь далеко, — сказала она, погруженная в свои невеселые мысли.
— Ну и что же? — возразил он. — Я же не навсегда уеду.
Она еще не могла так сразу простить ему эту маленькую измену их общей мечте. Будущая женщина, она уже превыше всего ценила в нем постоянство.
— Я вернусь, — повторил шестнадцатилетний упрямец и добавил, потупив глаза: — Вернусь, и мы будем вместе, вот что… Веришь или нет? — И, не дождавшись ответа, сказал: — Не веришь, ну смотри!
И он, торопливо раздевшись, бросился в гремящее сентябрьское море, желая доказать ей, что нет в мире ничего, что было бы ему не по силам.
Первый пенистый вал перевернул Ивана и швырнул о камни; не успев ощутить боли от ушибов, он снова, скрестив перед собой руки, торпедой полетел под волну и через минуту был уже вдали от берега. Качаясь на пологих спинах волн, он махал ей рукой: «Вот видишь, все в порядке, удалось!»
И он стал летчиком. А она — женой летчика. Жили они при аэродроме в маленьком поселке, приютившемся на пологом склоне голой тундровой сопки, в нескольких тысячах километров от родного дома, от теплого моря. Пришлось привыкать к полярным ночам, к поздним рассветам и ранним сумеркам, к яростному осеннему ветру, обжигающему щеки, к метелям, которые в этих краях способны были бушевать без передышки по нескольку суток, заваливая сугробами окна маленьких бревенчатых коттеджей.
Читать дальше
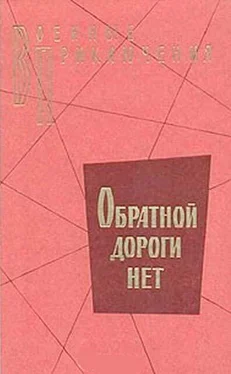





![Игорь Болгарин - Обратной дороги нет [сборник]](/books/388443/igor-bolgarin-obratnoj-dorogi-net-sbornik-thumb.webp)
![Виктор Зайцев - Дранг нах остен по-русски. Обратной дороги нет [litres]](/books/415672/viktor-zajcev-drang-nah-osten-po-thumb.webp)




