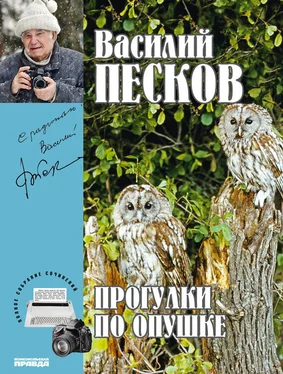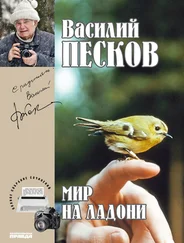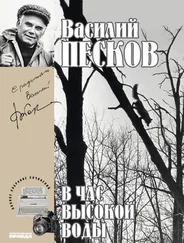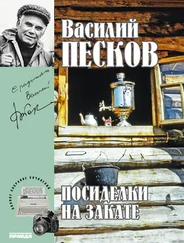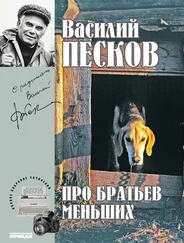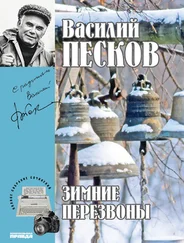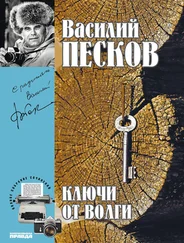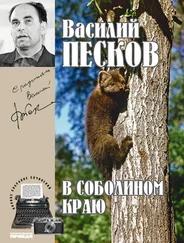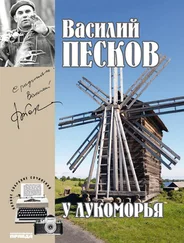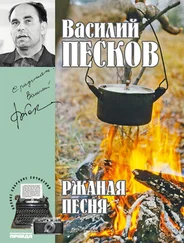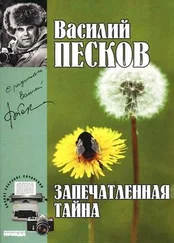Среди строительного материала древних людей находят археологи и предметы их быта. Ни дерево, ни кожа с тех далеких времен не могли сохраниться. Нет в находках и обычных для многих раскопок черепков – глиняной посуды у охотников за мамонтами еще не было. Но кости хорошо сохранились. Идеально сохранился и обработанный камень. Особенно впечатляют отщепы кремния, служившие ножами, скребками, наконечниками копий. Беседуя с учеными, я затупил карандаш. Ножа – очинить его – под рукой не случилось. Виктор Васильевич Попов погремел в одной из картонных коробок и протянул мне пластинку кремния – инструмент далеких времен. Острым гребешком камня я успешно обстругал карандаш. Вот и сейчас лежит предо мною этот ножичек древности с черточками карандашного грифеля. Закрыв глаза, можно представить себе волосатого человека в накидке из шкур. Сидел он, может быть, как-то вечером у костра в древнем своем жилище и что-то делал кремниевым ножом – может, свежевал добытую у реки живность, может, ремешок какой обрезал – и, поранив нечаянно палец, обсосал с него кровь, как иногда и мы это делаем. Где прах его тела? Разнесло ветром («эолова пыль»). Вырастали на земляной этой мякоти цветы какие-нибудь или растеньица с колючими стеблями. Их жевали букашки. Прах букашек тоже унесло ветром, и он тоже чем-нибудь обернулся. Таково течение жизни. А кремниевый ножик не затупился, лежит на столе рядом с тикающими часами. Можно взять отливающий синевой камень и аккуратно обстругать карандаш. Двадцать тысячелетий лежал в земле осколок далекой жизни. От этакой толщи времени кружится голова.
• Фото В. Пескова и из архива автора. 18 октября 2002 г.
Окно в природу
В Воронеже Бунин родился, жил близ Ельца, бывал в Ефремове, работал в Орле, и есть еще несколько деревенек, в которых прошло детство и юность писателя и о которых можно прочесть в захватывающей, почти биографической книге «Жизнь Арсеньева».
В деревеньках Бунина знают по наездам его поклонников, а Воронеж, Орел, Елец и Ефремов считают его «своим» и стараются чем только можно утвердить память о земляке.
«Поедем в бунинские места», – давно говорит мой друг, редактор журнала для детей (и не только детей) с милым названием «Муравейник». Сам он в юности, прочитав Бунина, так полюбил стихи его и удивительную «пронзительного письма» прозу, что, когда после окончания университета будущим журналистам предложили на выбор место работы и многие выбрали кто Сибирь, кто Камчатку, Николай Старченко сказал: «А я поеду в Орел». Его влекли бунинские места.
Я тоже Бунину поклоняюсь и говорил: «Ну что в деревнях! Ничего же не сохранилось…» «А природа! Вспомни Михайловское – память о Пушкине лучше всего хранит сама земля: холмы, река, луга, лес».
И вот мы едем в Ефремов, посещаем местный музей, а потом в компании нашей оказываются еще два «бунинца» – хранитель музея и директор районной библиотеки. Двум замечательным женщинам при нынешней музейно-библиотечной бедности никак не удавалось попасть в места, очень им дорогие.
День природа нам подарила погожий, солнечный, тихий. Дорога была расцвечена звенящими красками осени, синели дали, багрянцем и золотом румянились в них леса и кустарники. Пока охали-ахали, вспоминая, конечно, Бунина, оказались в Ельце. Тут Ваня Бунин учился в гимназии и жил «на хлебах» здешнего мещанина в маленьком доме, который в славном своей древностью Ельце сохранился, и в нем сегодня музей.
Все интересно в музее – портреты матери и отца Бунина, портреты братьев, сестры, вещи и обстановка теперь уже не близких времен. Как и везде в музеях, больше всего волнуют предметы, которых касалась рука чтимого человека. Их тут немного, но они есть – присланы из Франции, где Бунин более трети отведенного ему века прожил изгнанником и где его творчество, уходящее корнями к впечатлениям детства и юности, не увяло, как это случалось у многих вдали от Родины, а набрало силу. С интересом разглядываем очки, бритвенный прибор, баулы, с которыми путешествовал Бунин, листки со строчками его письма, ручку с «вечным» пером.

Дом-музей Бунина в Ельце.
Хранительницы музея посоветовали нам пройтись по Ельцу, «черты которого то и дело узнаются в написанном Буниным».
Ходить по городу интересно. Давнишняя провинциальность стала в Ельце самобытностью, город хранит много ярких черт прошлого и стоит особняком на всем пути от Москвы до Воронежа. Парит над Ельцом огромный собор, удивительным образом не пострадавший в войне. Бунин во Франции, слушая сводки с линии фронта, горестно восклицал: «Боже мой – Елец! Ведь это места глубинной России. Вот тут я жил, вот тут ходил», – говорил он, глядя на карту. Сохранилось здание гимназии, где Бунин учился и которую не окончил, сознательно прервав свое «официальное образование». Главным его университетом была деревенская жизнь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу