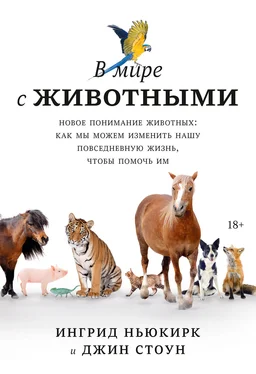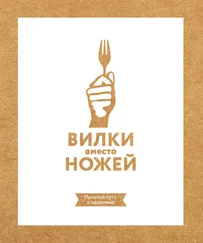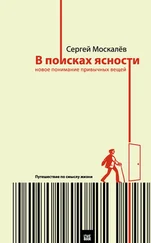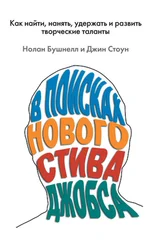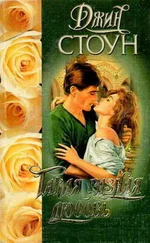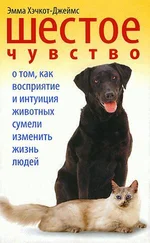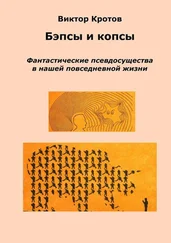В течение многих столетий после падения Римской империи религия и суеверия отвергали научные исследования, а эксперименты над животными утрачивали популярность. Использование животных в медицинских целях и обучении не практиковалось до появления научного метода — стандартизированного процесса наблюдений, измерений и создания гипотез.
Философы и ученые эпохи Нового времени и начала Просвещения, такие как, например, Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт, жившие в XVI–XVII веках, считали вивисекцию этически допустимой. Декарт пошел даже дальше и рассматривал животное как бесчувственный простой автомат — что-то вроде часового механизма. Декартова философия животных была настолько одиозной, что даже существовало предание, будто он ради изучения внутренних органов прибил живую собаку жены к стене и разрезал ее. Другие мыслители — например, нидерландский философ XVII века Барух (Бенедикт) Спиноза — допускали, что животные в состоянии испытывать боль. Однако в своей «Этике» {24} Спиноза утверждал: «Я не отрицаю того, что животные чувствуют, но я отрицаю то, что нам по этой причине непозволительно заботиться о своей пользе, пользоваться ими по своему усмотрению и поступать с ними так, как это наиболее выгодно для нас, так как они несхожи с нами по природе…» {25} , [67]
Опыты на животных не приносили ощутимых результатов, пока в первой половине XVII века Уильям Гарвей, придворный врач королей Якова I и Карла I, не опубликовал детальное описание системы кровообращения и работы сердца {26} . Этот труд, в котором были подробно приведены данные его экспериментов с животными, опровергал многие постулаты Галена. Во Франции в XVIII веке открылись первые современные медицинские школы, или академии, где использование животных в научных опытах стало стандартной частью процесса обучения. Ситуация ухудшилась во второй половине XIX века, особенно после того как французский физиолог, исследователь процессов внутренней секреции и основоположник эндокринологии Клод Бернар заявил: «Эксперименты на животных полностью подходят для изучения токсикологии и гигиены человека. Воздействие этих веществ на животных такое же, как и на человека, различия только в степени» [68].
Убеждение ученых, что у них есть отдельное право убивать животных, окончательно закрепилось и широко распространилось к концу XIX века, на что, безусловно, повлияла деятельность французского химика и одного из основоположников микробиологии Луи Пастера. В начале 1880-х годов Пастер приступил к изучению возбудителя бешенства и работе над созданием вакцины против этого заболевания. В процессе поиска вируса бешенства и его исследования ученые заразили сотни животных. Пастеру удалось создать вакцину и довольно успешно провести первую иммунизацию укушенных людей. Но после этого триумфа количество несчастных животных, погибавших от исследований, вырастало в дальнейшем в геометрической прогрессии. Уже в XX веке при разработке первой вакцины против полиомиелита, оказавшейся неудачной, были убиты тысячи приматов.
Подобное положение дел устраивало не всех. Некоторые ученые еще в XIX веке, как, например, защитник животных Чарлз Дарвин и английский хирург и создатель хирургической антисептики Джозеф Листер, считали, что животных следует привлекать к научным экспериментам лишь в самых исключительных случаях и стараться по мере возможности не причинять им боль.
Движение против вивисекции
С самого возникновения вивисекции как явления науки и медицины существовали отдельные борцы, выступавшие против, но, чтобы появилось организованное протестное движение, потребовалось много, очень много столетий. Оппозиция развивалась на фоне становившейся все более чудовищной картины препарирования живых существ — картины, которая, более того, иногда обретала черты публичного зрелища. Например, в XVII веке англо-ирландский натурфилософ Роберт Бойль, проводя физические и химические эксперименты, регулярно демонстрировал опыты с вакуумным насосом, из стеклянной камеры которого откачивался воздух. Причем в эту склянку помещалась птица, мышь или улитка, и изумленным зрителям предлагалось наблюдать, как животное, задыхаясь, бьется в конвульсиях и агонизирует. Французский физиолог первой половины XIX века Франсуа Мажанди наводил ужас на публику своей садистской вивисекционной практикой, когда вскрывал морду живой собаке, распятой на доске, или перерезал нервные окончания в мозгу живого кролика. Ученик его школы экспериментальной физиологии Клод Бернар, которого мы уже упоминали выше, был также печально известен своими жестокими опытами на животных. Один из его научных экспериментов касался изучения влияния высоких температур на живой организм: он помещал собак, кроликов и голубей в специальные печи и наблюдал, при какой конкретной температуре гибнет и как гибнет тот или иной вид животного. Такого не выдержала его жена и подала на развод.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу