— Сюда! Сюда! Я нашла! Я догнала!..
— Прибавь-ка, Фаддей!
Фаддей вылетает вперед, огромный, грузный и страшный, и мчится по узкой тропинке тоже, как лось, только рогов у него нет.
— Го-го-го! — зычно и грозно раздается его крик.
Вот он, лось. Он высокий и серый, как лошадь в оленьем убранстве, и голова у него, как толстый березовый корень, и лопаты рогов о шестнадцати копьях, как две боевые машины… Увяз по колено в снегу, а задом прижался к рогатому пню и морду нагнул до земли, и в диких глазах светится ярко и мрачно: «Ну-ка, сунься».

Злится, заливается Игла, бегает кругом, суетится, проваливается в ямы, а близко не подходит. Она не торопится узнать, какие у лося копыта. Только круги замыкает то слева направо, то справа налево. Пробежит за спиной у добычи и тявкнет: «Дескать, не думай уйти. Я тут стерегу»…
Абрамка хватает винтовку на руку. Раз! Мимо!.. Лось стоит, как вкопанный в землю, не пошатнется, как каменный.
Павел гогочет и медленно прикладывается из своей кремневой пищали.
Она — английской работы и клеймо на ней: «Лондон, 1820». Павлу досталось от деда. Еще десять лет — и можно справлять ей столетний юбилей.
Сколько лосей и моржей она перебила, а сама все живая.
Ствол у нее легкий, как дудка. Игрушечное ложе. Мелкие пули, как пчелы. И выстрел не громкий, словно хлопушка ударила.
— Не трогай!
Фаддей поворачивается к Павлу и яростно кричит и машет рукой.
— Чего ты, леший?
— Не трогай, убью!
Даже лицо у него потемнело, как-будто чугунное. Вправду, леший.
— Четверо вас, — рычит Фаддей. — Пся кров. Надо итти одному…
Он снимает ружье и бросает на землю, и выходит на лося с голыми руками один. Лось ждет и дико косится огромными сверкающими глазами.
— Оставь, сумасшедший! — встревоженно кличет Павел. — Поистине безумие — приблизиться на лыжах к ужасным лосиным копытам.
— Не трогай! — рычит Фаддей. Он весь как-будто изменился и сделался мягче и гибче. Каждое движение стало точно рассчитано и как-то неуклюже грациозно. Этот домашний медлительный буйвол вдруг превратился в лесного медведя.
Лось ждет. Он выпятил нижнюю губу. И глаза его стали как-будто другие, упрямые, тупые. Фаддей резко под'езжает концами лыж под огромную морду, протягивает руки и хватается за страшные рога. Это будет как встреча лигийского Урса с туром. Где обитали лигийцы? Быть может, в Волынском Полесье? Та же фигура и те же ухватки. Урс, пожалуй, придется Фаддею прадядя…
Фаддей утверждается крепче на лыжах и тянет. И вдруг, как-будто по сигналу, огромная туша тяжко валится на землю.
Вскидываются крепкие ноги, как четыре живые ствола. Пуля Абрамки добралась до жизни, да только не сразу проела дорог, сквозь крепкую грудь.
— С полем! — поздравляет Шкулев, насмешливо кланяясь. — Абрамка, с тебя магарыч.
По правилам охоты удачливому стрелку достается голова и звериная шкура.
— Куда мне ее, — отмахивается Абрамка.
— Дуке отдашь на постелю, — усмехается Павел.
Так начинается в Устье сватовство. Жених уходит в леса и приносит оттуда невесте лучшую шкуру добычи своей на постелю.
Огромное солнце садится и тает, словно сгорает в пылающих волнах.
Заря-Зореница опять протянула по нему огнистое крыло. Небо и снег, и деревья, и воздух отсвечивают алым.
Господи, как мы устали! Скорей костер.
Павел хлопочет над тушей. Фаддей выворачивает с корнем сухие деревья.
Дымно багровым столбом встает наше пламя под розовым небом.
Почки, сердце и печень — на шомпол в огонь. Над трупом огромной добычи вместе с Иглой мы пируем как-будто каннибалы.
Бесшумно и странно и чутко подходит апрельская ночь. Огнистые перья на крыльях зари становятся темно-густыми, и воздух как-будто наполнился пеплом, оброс паутиной, дымчато-алой, и легкой и нежной. Садится на глаза паутина, алая дрема немеркнущей ночи нисходит на девственный лес.
Костер наш навален рогатой стеной. Мы не взяли с собой ни постелей, ни шуб. Сегодня огонь нам заменит и постели, и шубы. На грудах нарезанных веток Фаддей протянулся, как громом убитый. И Павел свернулся клубочком, как еж. Пылают сухие стволы. Кедровые шишки с треском взлетают, как-будто ракеты. Огромное пламя журчит, как вода, и поет, и сверкает цветным переливом.
— Не спишь, Абрам?
Как угли сверкают большие глаза.
— Да, не сплю. Все думаю.
— Брось! Ненужное дело. О чем же ты думаешь?
Читать дальше
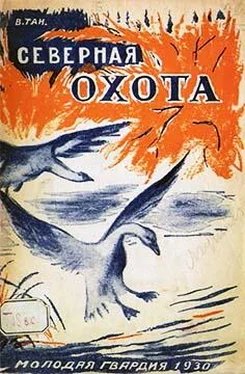


![Владимир Богораз - Собраніе сочиненій В. Г. Тана. Томъ десятый. Стихотворенія [Старая орфография]](/books/393682/vladimir-bogoraz-sobranІe-sochinenІj-v-g-tana-to-thumb.webp)
![Владимир Богораз - Три сказки, записанныя въ Колымскомъ краѣ. [Старая орфография]](/books/395948/vladimir-bogoraz-tri-skazki-zapisannyya-v-kolymsk-thumb.webp)


![Владимир Богораз - Чукотскіе разсказы [Старая орфография]](/books/398246/vladimir-bogoraz-chukotskІe-razskazy-staraya-orfogr-thumb.webp)


![Владимир Богораз - Очерки колымскаго края [Старая орфография]](/books/400628/vladimir-bogoraz-ocherki-kolymskago-kraya-staraya-or-thumb.webp)
![Владимир Богораз - Собрание сочинений В. Г. Тана. Том восьмой. На родинѣ [Старая орфография]](/books/400689/vladimir-bogoraz-sobranie-sochinenij-v-g-tana-to-thumb.webp)
![Владимир Богораз - Красное и черное [Старая орфография]](/books/401039/vladimir-bogoraz-krasnoe-i-chernoe-staraya-orfograf-thumb.webp)