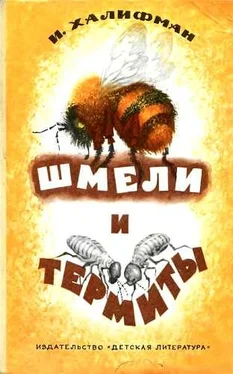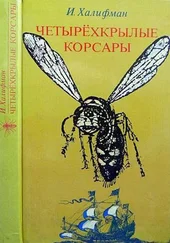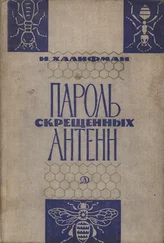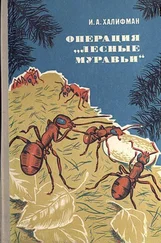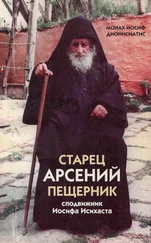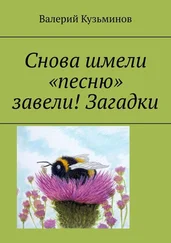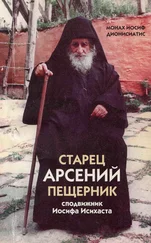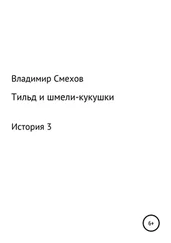Оно, оказалось, зависит от того, как размещены ячеи и камеры в поющих и немых гнездах.
Шмели могут жужжать, действительно кондиционируя воздух в гнезде, и их песнь — словно шум четырехкрылого вентилятора в вытяжной трубе.
Горнист может — это чаще происходит ночью или под утро — подавать сигнал о перегреве воздуха, и тогда действительно рабочие начинают вентилировать гнездо. Под кровлей на соте остаются в таком случае только шмелиха и самые мелкие шмельки из ее свиты. Остальные обитатели гнезда уходят по подземным коридорам, собираясь в свободных полостях, окружающих восковой центр. Между этими-то пригородами и центром шмелеграда поддерживается акустическая связь.
Здесь трубачи могут играть не сбор, а, наоборот, команду «разойдись!».
Есть другой сигнал — он тише, короче, отрывистей, словно перекличка часовых, которые связывают обитателей гнезда, оставшихся под кровлей дома, с теми, что сгрудились в запасных помещениях пригорода.
— Слушай!
— Есть слушать!
— Ау!
— Все в порядке!
В повести Сельмы Лагерлеф о Нильсе Хальгерсоне перелетные гуси перекликаются в пути:
«Я здесь, а вы где?»
Так же перекликаются и шмели в разветвленных гнездах.
Вставьте на мгновение в центральный ход гнезда кончик карандаша. Тон жужжания изменится, станет заметно громче и резче.
Повторите операцию с карандашом — и из гнезда вылетает стража, в воздух поднимаются крупные и средних размеров шмели. Другие высыпают на внешний купол гнезда. Если сухо, часть шмелей, опрокинувшись на спину, вытягивает вперед задние и средние ножки, передние прижимает к голове, как можно шире раскрывает челюсти, поднимает конец брюшка с жалом.
Знакомая нам поза полной боевой готовности: вцепиться, кусать, жалить!
Шмелиха и мелкие шмельки, оставшись в гнезде, зарываются глубже, прячутся под сот, даже в пустые коконы.
Выходит, Перез ошибался, говоря, что шмели лишены слуха?
Не совсем.
Они не воспринимают воздушных колебаний, зато колебания почвы, на которой находятся, улавливают очень тонко. Положите вблизи гнезда электробритву и включите ее. Шмели сразу отзовутся. Несмотря на то что шмели лишены слуха, вы обменялись с ними сигналами, и они подали ответный голос.
Теперь можно искать и самого трубача. Надежно замаскированный своим одеянием, крупный шмель впился в грунт, изогнул тело, опустил голову и, выставив вперед чуть дрожащие усики, гудит, жужжит, работая крыльями. Они не различимы в быстром движении, только пыль и труха летят из-под них.
Ну, а что же с поэтической легендой об утренней зоре, которую горнист играет на рассвете?
Существует, оказывается, и этот сигнал. Он подается после того, как в гнездо, где не менее часа было совсем темно, начал проникать достаточно яркий свет. Опыты с искусственно затемняемыми в разное время гнездами показали: затемнение должно поддерживаться дольше часа, только тогда свет вызывает трубача, который словно извещает о восходе солнца, о начале нового рабочего дня, о летной погоде, о часе, когда можно приступить к сбору корма.
Гедарт был, как видим, не так уж далек от правильного толкования факта. Но потребовалось ни много ни мало триста лет, чтоб это стало ясно.
Царь Берендей из «Снегурочки» Римского-Корсакова начинает знаменитую свою каватину словами: «Полна чудес могучая природа…»
Песни шмеля — одно из таких природных чудес.
Но разве не чудесна и сама растянувшаяся на три столетия эпопея изучения этого мимолетного, крошечного факта, подмеченного в жизни одного из сотен тысяч видов насекомых?
А ведь в ней участвовали выдающиеся натуралисты. И мы смогли услышать и простодушное, наивно очеловеченное толкование Гедарта, и иронический приговор Реомюра, и увлеченные выводы восторженного Хоффера, и рационалистические догадки Вагнера, и любознательность приложившего ухо к земле юноши Римского-Корсакова, и оснащенную всеми техническими новинками дотошность Хааса, окружившего шмелиные гнезда в своей лаборатории бесшумными хронометрами и автоматическими вибрографами, жужжащими магнитофонами, стрекочущими кинокамерами.
Но вот этот долгий поиск высек в конце концов искру точного знания, и крошечный факт приобрел значительность, присущую любому правильно понятому явлению природы. Здесь, как и всегда в науке, каждый полученный ответ рождает рой новых вопросов…
В самом деле…
Чем воспитана у трубачей-сигнальщиков повышенная чувствительность к состоянию и потребностям всего поселения? Почему на смену одному трубачу, если его убрать, обязательно приходит другой? Что побуждает шмелей отвечать на сигналы горнистов?
Читать дальше