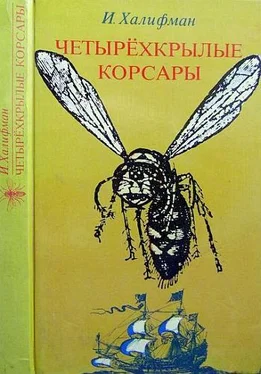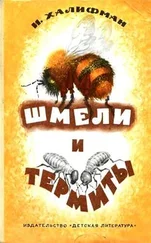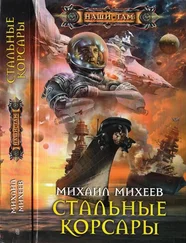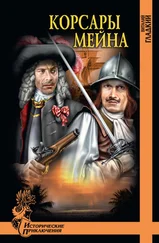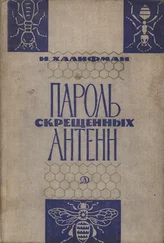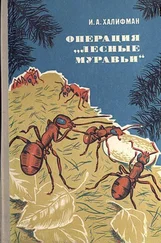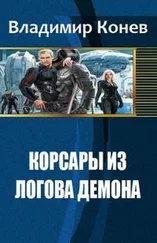Научный сотрудник исследовательского института а Окленде доктор К. Р. Томас, обследовав в 1945 году местность вокруг Гамильтона, нашел 7 гнезд Паравеспула германика. В последовавшие шесть лет он каждый год расширял обследуемую площадь и убедился, что осы размножаются с неимоверной быстротой. В 1946 году было выявлено 615 гнезд, через год — 1465, еще через год — 6365. В 1951 году Томас насчитал 31 565 гнезд… На этом учеты были прекращены, потеряли смысл.
Главное заключалось, впрочем, в другом: гнезда, которые стали обнаруживаться в переписях, проводившихся Томасом, приобретали форму и размеры, не виданные еще нигде на земле. Они разрастались во всех трех измерениях. Число сотов продолжало из года в год увеличиваться. Ячеи сохраняли форму, оставались такими же, как всюду. Соты изменились: обычно они состоят из рабочих ячей, окруженных венчиком более емких ячей для воспитания продолжателей рода — они крупнее, чем ячеи для рабочих ос. Здесь венчик больших ячей обрастал еще кольцом — снова из рабочих ячей. Подземные гнезда с их невероятно увеличившимся населением стали связываться с внешним миром уже не одним ходом, а двумя. И как быстро возникло это важное усовершенствование в организации подземной шахтной службы! «Не удивлюсь, — пишет один из новозеландских натуралистов, — если исследования покажут, что дело идет к установлению одностороннего движения в этих ходах».

Одно из самых крупных подземных гнезд, открытых в местности, именуемой Те Авамугу. Размеры гнезда — 117х100х95 сантиметров. И те осы, что гнездятся подземно, тоже, пережив холодную пору года, с возвращением тепла принимаются вновь за дело: расширяют гнезда, сооружают новые соты. Типичное гнездо германика; часть оболочки снята, видно несколько этажей крупных сотов.
В районах давнего своего распространения осы германика обитают чаще подземно.
В Новой Зеландии, особенно в субтропических участках, они начали селиться в кронах деревьев: бумажные гнезда охватывают, окольцовывают стволы мощных деревьев, гигантскими наростами поднимаются на изрядную высоту.
Вскоре германика появилась уже и в Тасмании. Здесь самое крупное гнездо — подземное — имело 30 сотов этажей и полтора миллиона яичек. Его размеры 1.8х0.8х1,2 метра. На большой площадке перед ходом лежали плотным слоем земляной крупы отвалы грунта.
Надземное гнездо, обнаруженное в районе Вайтакере на стволе гигантского дерева тотара, было вдвое выше человеческого роста и подлинно неохватно. А обычное, висящее в кроне, представляло укрытую многослойной, плотной, как картон, оболочкой округлую фигуру размером 117х100х95 сантиметров! Весило это гнездо примерно полцентнера. Но в Новой Зеландии найдены были гнезда и гораздо более крупные. Самое большое из обнаруженных Томасом и описанных в его отчете имело 180 сотов. При высоте 4.6 метра и ширине 2,4 метра вес этого сооружения, вмещающего от трех до четырех миллионов ячеек, должен, по расчетам, доходить до полутонны.
Помните описание музея инстинктов в одной из предыдущих глав? Там оставлены пустые витрины для сверхбольших гнезд... Вот они нашлись! Но какой музейный шкаф вместит плоды строительного искусства обитателей многолетнего гнездилища, ставшего кровом для семьи, превратившейся на новоселье в многоматочную?
Разумеется, не все гнезда Паравеспула германика, обнаруживаемые при переписях, многолетние. Иные к концу сезона приходят в упадок, подобно тому как это наблюдается на всем пространстве давних осиных империй. Но некоторые противостоит календарю, осы покидают соты, собираются на кровле гнезда и здесь в самообогревающемся клубе дожидаются возврата тепла; весною только часть молодых продолжательниц рода разлетается для закладки новых гнезд, остальные же возвращаются в гнездо и принимаются засевать готовые ячейки.
В иных старых гнездах одновременно живут и червят десятки, в одном найдено было свыше семидесяти молодых продолжательниц рода. Неудивительно, что такие гнезда и растут в десятки раз быстрее обычного. Уже само существование готового жилища намного ускоряет ход вещей. Молодые самки избавлены от необходимости основывать гнездо. Они сразу приступают к продлению рода.
Откуда, однако, взялись эти новые способности семей паравеспула? Что научило ос выполнять здесь новые роли? Как узнают они, что после чего полагается предпринять, за что и как браться? Здесь вполне уместно повторить замечание старых натуралистов по поводу потомства одиночных ос: «Ни у одной особи ум не подвергается искушению подражания».
Читать дальше